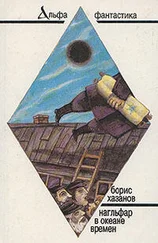Борис Хазанов - Аквариум
Здесь есть возможность читать онлайн «Борис Хазанов - Аквариум» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2008, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Аквариум
- Автор:
- Жанр:
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Аквариум: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Аквариум»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Аквариум — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Аквариум», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
«Извини, я выпил».
«Ты о Директоре, что ли?.. А ты знаешь, сколько ему лет?»
«Я думаю, он сам не знает».
Людочка мельком оглядела его. «Где же твои ордена?»
«Я их вернул».
«Кому?»
«Вернул владельцу… дяде. У меня дядя коллекционер».
«Ну, я так и думала. Я сразу поняла, что ордена поддельные. Между прочим, — сказала она, — и документы поддельные».
«Как это, поддельные», — пробормотал Лёва.
«Не такие уж все кругом дураки, — сказала Людочка сентенциозно.
Она смотрела на парапет набережной, на другой берег, где зажигались огни. — Он хочет, чтобы все так думали», — проговорила она. Лев Бабков хотел спросить, имеет ли она в виду Директора, но тут оказалось, что кто-то сзади подошёл и слушает их разговор.
«Вот, — сказал человек, — я принёс тебе шаль. У матери попросил. А то ещё простынешь. Схватишь воспаление лёгких. Как я».
«Ты бы лучше с ней посидел…» — пробормотала Людочка, кутаясь в пуховый платок.
«Успеется. Красивая у меня дочка, а?»
«Не дочка, а падчерица», — поправила Люда.
«Какая разница?» — сказал человек грустно.
«Большая, — отрезала она. — Если бы ты был отцом, а не отчимом, ты бы не посмел. Он меня… как это называется. Хотел лишить девственности».
«Послушай. Это ты сама с собой говоришь? Или я уж совсем окосел?» — пробормотал Бабков.
«Неправда, Люда, — сказал мертвец. — Всё совсем не так, сама знаешь».
«И ты ещё будешь спорить. Мне было шестнадцать лет».
«Да, шестнадцать. А теперь — сколько тебе теперь?.. Я, Люда, тебя любил. Так любил, как никакой отец любить не сможет. Я боялся к тебе притронуться. А ты садилась ко мне на колени. Что же я, по-твоему, деревянный, что мне было делать?.. Но только то, что ты говоришь, насчёт этой… девственности, это неправда, Люда. Я твою девственность чтил…»
Было уже темно, и огни другого берега отражались в реке.
«Ладно, отец, иди. Хоть в эти последние минуты не бросай маму».
«Я её не бросаю, сама видишь… А надо было бросить. И с тобой уехать… Может, я и не пил бы, и жив бы остался. А чего это он к тебе клеится. Ты кто такой будешь?»
«Я не прочь с вами поговорить», — сказал Бабков.
«О чём же это?»
«Я бы хотел поговорить с вами о бренности. О смерти».
«А чего о ней говорить-то», — возразил отчим Люды и так же незаметно, как он появился, растаял в вечерней тьме.
Вместо любви
Тот, кто спал, слышал отдалённый рокот, те, кто бодрствовал, думали, что им снится сон. Есть истина дня, и есть истина ночи, думал Лев Бабков, обе половины земного бытия лгут по-своему. Дело происходило ночью. На пустынных перекрёстках сияли зелёные огни светофоров. Город спал, лиловые тучи накрыли его, как одеяло. Может быть, это была особенно глубокая, провальная, бездыханная ночь.
Он сидел в темноте на краю постели, там пошевелились; заспанный голос спросил: «Ты чего?» — «Спи», — сказал он. «А ты? Почему не спишь». — «Посижу немного и лягу». Рокот приближался. «Тебе нехорошо?» — «Всё в порядке», — заверил её Бабков.
Она приподнялась. От неё шёл запах женщины, тепло брачной постели, она спит без рубашки.
«Я знаю, отчего ты не спишь, ты думаешь о нас с тобой». Он пожал плечами. «Я тебе надоела, да? Скажи прямо». Молчание. Лев Бабков подошёл к окну и увидел мёртвую рябь воды и силуэт набережной. «Иди ко мне, — сказала Люда, — я тебе что-то скажу».
Гром с окраин.
С дальних излучин реки доносится этот грозный натиск, ничто уже не мешает вторжению, город не в состоянии заслониться от рокота, он уже близок.
«Не пойму я, что ты за человек…»
«Пора бы уже понять», — вяло отозвался Лёва. Оба, заворожённые, стоят у окна. Лев Бабков обнял её плечи, Людочка, дрожа от холода, босиком, прижимает к груди скомканную рубашку.
Фургоны с брезентовым верхом, с погашенными фарами друг за другом выехали на тусклую набережную, рёв моторов, усиленный близостью воды, ударил в стёкла домов. Странно, что люди не повскакали с постелей, не высыпали на улицу взглянуть, что случилось. Вероятно, думали, что это им снится. Грузовики с рядами круглых шлемов, с неподвижно-мертвенными лицами солдат протарахтели вслед за фургонами с амуницией, а там уже выворачивают из-за поворота, выстраиваются в колонну, длинной вереницей растянулись по всей набережной покрытые проволочной сеткой машины с арестантами. Поднимайтесь, смотрите на них, каждый из вас может завтра очутиться на их месте. Головы опущены, рук не видно, руки засунуты в рукава бушлатов, конвоиры, с автоматами перед грудью, покачиваются, прислонясь спинами к кабине шофёра, по двое в каждом кузове, — рискованная ситуация! Нарушение инструкции. Что если эта масса сидящих, без наручников, без ничего, в опасной близости от охраны, завладеет оружием, выпрыгнет, и поминай как звали? Ничего, не выпрыгнет. Сидят, опустив головы в уродливых арестантских бескозырках. Соблюдая короткую дистанцию, как требуют правила уличного движения, за грузовиками в клетке-колымаге едут смирно, в проволочных намордниках сторожевые овчарки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Аквариум»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Аквариум» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Аквариум» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.