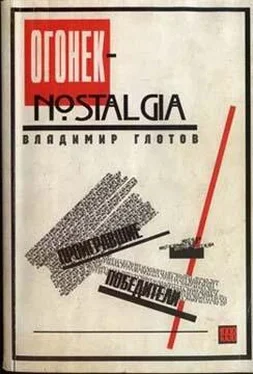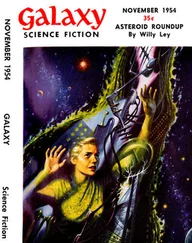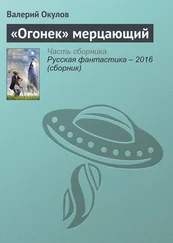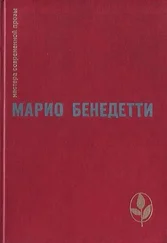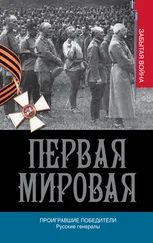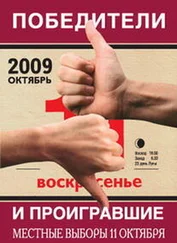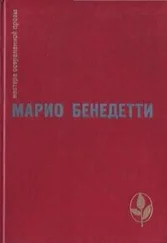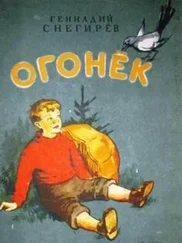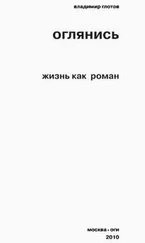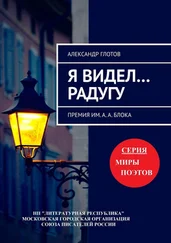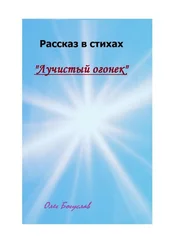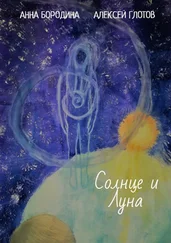До него на пункте перекачки служил другой сержант и другой узбечонок открывал «кран». У ребят была хорошая жратва и американские сигареты. Но «система» сломалась.
— Не думай, что это ты ее сломал, — успокаивал сына Рахмат. — Она сломалась сама. Виноват зверь-сержант, твой предшественник. Тут постоянно все менялось. Приходил новый русский сержант. И новый узбек — собирать окурки. И тот узбек, который был до меня, во время шухера спрятал полученные от моджахедов деньги в сусликовую норку, а утром всем гарнизоном не могли найти. Сержант хрипел: «Сволочь! Себе на дембиль зажал?» А узбек дрожал и клялся. И норки откапывал.
Сусликовые норки все одинаковые. В какую узбек спрятал афгани, так и не нашли. И ночью несчастный солдат застрелился из карабина в туалете, а сержанта убрали, куда-то перевели. И «кран» с тех пор открывался не часто. Поэтому Рахмат и сказал сыну, чтобы он не думал, что такой смелый, сломал «систему» — и простодушно посожалел: «Будем теперь жрать один концентрат».
Почему на меня выпал этот жребий?
Я провожал сына в августе восемьдесят пятого. Мы стояли на том самом Казанском вокзале, с перрона которого я когда-то уехал в Сибирь. Мимо равнодушно проходили пассажиры, несли арбузы. Мне казалось это несправедливым: я не написал ни строчки в защиту грязной войны — и мой сын вынужден на нее отправляться, а Геннадий Бочаров, памятный мне еще с «Комсомольской правды», жизнерадостно опаивал со страниц «Литгазеты» всю страну своими героическими очерками о тех, кто выполнял «интернациональный долг» — и ему повезло, он своего, кровного, говорят, вытащил буквально из самолета, не дал туда отправить.
Нелепые вопросы.
Жизнь каждого человека катится по колее. И все, что в той колее — все под твоим колесом. Именно так взорвалась мина под колесом «камаза», которым управлял узбек Рахмат, и выбросила его из кабины как раз накануне дембиля.
Конечно, ничего этого я еще не знал, когда сидел на стуле, забившись в угол пустынного кабинета в Большом доме. Не знал, что сын отправится на войну и вернется с нее живым. Не знал, что погибнет в ста метрах от дома. Я был свободен, удачлив, верил, что и на этот раз выпутаюсь из переделки. Один мой сын был еще совсем мал и барахтался, пытаясь бороться с огромной нашей овчаркой по кличке Мартын, а другой, двенадцатилетний, сочинял мне гордое письмо из Сведловска, сообщал о поединке на шпагах в крапивинской «Каравелле». И до последней прогулки с ним и с фокстерьером было еще далеко. Еще и прежний пес не прожил до конца свою собачью жизнь. Но мина все равно уже лежала в колее на пути к озерцу в окрестностях Герата, откуда мой сын и солдаты его небольшого гарнизона брали воду.
Выходит, все дело в колее? У каждого она своя. Поэтому мне не суждено было стать ни Чикиным, ни Бочаровым. И никакой моей заслуги в том нет.
Или все же — мог бы?
Одно случайное действие, неосторожный шаг в сторону — не в логике пути — и вся картина жизни непредсказуемо меняется. Могло так быть?
Валентин Чикин, мой коллега по газете, стал зловещей тенью Нины Андреевой. У меня его инфернальная внешность вызывает судорогу омерзения, когда я вижу, как телекамера плывет мимо его тяжелого, обрюзгшего лица. Вот он среди депутатов — еще немного усилий, и он станет нашим могильщиком.
Когда-то мы дышали воздухом одного редакционного коридора. И однажды он, редактор отдела пропаганды, член редколлегии «Комсомольской правды», остановил меня, пробегавшего мимо, и сказал: «А ты ничего написал!» — похвалил мой очерк.
Почему мы пошли разными путями? Почему я сейчас смотрю на его лицо на экране и благодарю судьбу за то, что я — это я, а он — это он.
Почему я стал таким, каким я стал?
Ведь все начиналось банально в родильном отделении «кремлевки». За год до тридцать седьмого. Рядом на койке мучилась сноха Ворошилова — она разрешилась Климом. Домой в пятикомнатную квартиру на Арбате меня отвезла отцовская персональная «эмочка». Шесть домработниц, безжалостно увольняемые отцом, сменяя одна другую, стирали мои пеленки.
Банальной была и гувернантка-француженка, за кусок хлеба учившая меня с помощью игральных карт и песенок птичьему языку своей страны. Песенки запомнились. Прорвались, как НЛО, сквозь толщу световых лет войны и голодной юности, сибирских похождений и журналистских кочевий — нет-нет, да напою мотивчик. Но смысла слов не понимаю: «Пан кес ке ля сэ, палишенель, мамзеле, пан кес ке ля сэ, палишенель, кивля».
Читать дальше