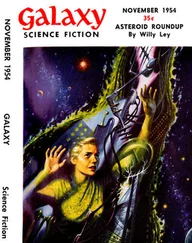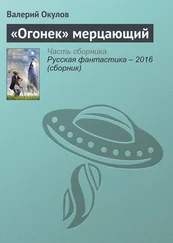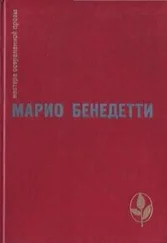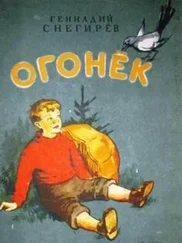Жердеобразный, с изможденным, вечно красным от холода и водки, помятым лицом, напоминавшим старую, заброшенную скворешню, с маленькими хитрыми и злыми глазками, темным провалом рта и двумя рядами стальных зубов — настоящий Костыль, не зря окрестили. Петр Штернев стал для меня подлинным символом Запсиба.
Так то — для меня.
Его всегда отодвигали в сторону, стоило в бригаде появиться корреспонденту. Да не дай Бог, с фотоаппаратом!
Наша бригада никогда ни с кем не соревновалась. За нас это делали в конторе. Там сравнивали наши цифры с цифрами других бригад. Мы же просто зарабатывали себе на жизнь, стремясь, по-возможности, еще приписать себе кое-что. Костыль был большой мастер по этой части.
В один из дней у нас особенно ладилась работа. За ночь мы перекрыли плитами большую бойлерную. И вскоре нам сообщили, что по итогам соревнования нам присудили первое место и даже переходящее красное знамя. Бригада отреагировала безразлично. Мне же, заведенному всей предыдущей запсибовской гонкой, показалось, что такое событие надо отметить. Не банальной пьянкой, а как-то возвышенно. Столько работаем вместе — и ни разу не собирались в домашней обстановке. Все на ходу — по стакану… и разошлись.
Я сказал, что квартира есть. Соберемся у меня.
Пришли прямо с работы, заглянув по пути в магазин. Сбросили брезентухи, разулись, раскидали портянки в прихожей. Елена смотрела на нас, улыбаясь. Увидав Елену, монтажники растерялись. Елена была красива, а тут еще принарядилась. Петро Штернев чуть не умер со страху. Ворчал, что все это зря. Надо было раздавить по-быстрому где-нибудь в подъезде. И по домам.
Комната наполнилась запахом пота и бензина. Гордиенко сунулся к полке с книгами, дотронулся до корешка рукой — осторожно, как до стеклянного. И не взял — из вежливости. Ничего не трогали. Толпились посреди комнаты, вокруг стола.
Наконец, сели. Стаканов на всех не хватило. Костыль налил себе в пустую консервную банку.
После второго стакана пошел треп о жизни. Кричали: «Фенстер гад!» Костыль кривлялся, говорил, что он знает — я его не уважаю. Потом заспорил с Гордиенко.
— Опять ты, — кричал Костыль, — вчера грелся на солнце! Кепку на глаза надвинул, падло, и лежит…
Костыль поворачивался то к одним, то к другим, ища сочувствия. Падал на тахту, показывая, как лежал Гордиенко на балке на десятиметровой высоте.
— Я его пнул ногой, он даже не пододвинулся. Я ему говорю, уйди хоть с высоты, скройся куда-нибудь и лежи. Так нет! Ему надо на балке… Я на фронте «тридцатьчетверку» водил. У меня нога сломана в Темиртау. Я монтажник! А он кто? Сопляк! И он передо мною лежит…
Костыль какое-то время еще кипятился, но его плохо слушали, разговор раскололся, потек по углам. Каждый наливал себе сам.
— А я женился, — признался тихий Коля Мунгин, лопоухий, как зайчик, о котором все мечтает красавчик Гордиенко.
Я мыл посуду, Елена убирала со стола. Нужно им знамя, рассуждал я, как негру валенки. Вот посидели — нормально.
Странно, думал я, что Карижский не тронулся умом — с этими его закидонами. Бочки с квасом доставлял в карьер, руки по ночам бегал пожимать… Его преемник Витя Качанов, тихий незлобивый человек, вызывавший у меня симпатию, сделал первый робкий шаг по разрушению мифа, но тут же сам нагородил: охватил всю стройку штабами, завесил стены графиками и диаграммами, пообещав кому-то в Москве превратить Запсиб в «стройку коммунистического сознания».
Ни шага у нас — без этих хоругвей. Опять мы рапортовали. Складывали, умножали — и рапортовали. Делили, вычитали — и снова рапортовали.
Через год Качанов уехал с сердечной болью. Уехал в Крым начальником лагеря «Спутник» — на заслуженный отдых.
А прораб Тарасенко (можно подумать — одни хохлы населяли стройку), когда мы с ним разговорились на больную тему, сказал:
— Жить надо без трёпа.
Я согласился. Только не получалось.
9
Мастерами «трепа» были мы, журналисты.
Значение «Металлургстроя», крошечного средства массовой информации, первым среди нас понял Карижский. С максимальной выгодой для себя и для дела он использовал дружбу с пишущей братией.
А Шамин, дремучий партийный бюрократ, спрашивал меня: «Вы с кем-нибудь советуетесь, когда пишете? Оговариваете?» — ему не дано было управлять нами даже тогда, когда его сделали нашим куратором.
Карижский и Иван Белый делали это с большим искусством. Белый производил впечатление честного и скромного работника низового партактива. Не карьерист. Коммунист «с человеческим лицом». Ходил в телогрейке и кирзовых сапогах, как и мы. Редко повышал голос. Косил глазом, изуродованным на фронте. Не думаю, что Гарий Немченко сделал его одним из своих литературных героев из примитивного расчета. Но, читая теперь опусы моего товарища, не могу отделаться от чувства неловкости.
Читать дальше