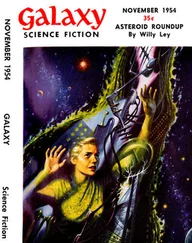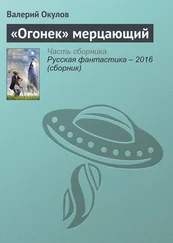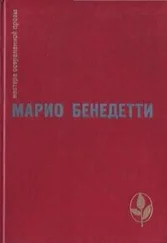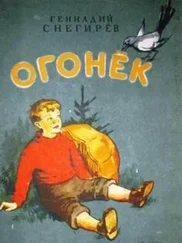Мы попрощались. Остались Чернов, Сваровский (мой школьный товарищ), Лев Тимофеев и Юра Амбернади.
Какое-то время они держались вместе, а потом и их разбросало. Амбернади вспомнил прежнюю профессию и уплыл капитаном на Север, чтобы грустить в свободные от вахты часы.
Тимофеев попытался было вступить «в ряды», его приняли кандидатом в члены партии, но одумался — да так одумался, что оказался в Пермском лагере особого режима. Чернов, неунывающая птаха, то исчезал, то опять возникал на горизонте, успел нарожать детей, завести новых кошек и собак породистых кровей, в духе популярной у генералов войны — «афганцев». Николай был ближе других. Благодаря ему я еще какое-то время знал, что происходит в потерянном нами журнале: тина обволокла все.
Судьба самого Поройкова сложилась на удивление причудливо. Хотя — в служебном смысле — вполне тривиально; Его забрали в ЦК партии, потом он оказался в роли заместителя главного редактора «Литгазеты», привел за собой, конечно, Заречкина. Теперь он доканчивает службу Отечеству в информационном агентстве — бывшем TACСe. Необычно другое! На каком-то этапе этого пути наш осторожный Юра вдруг отпустил усы, съездил в банановую республику, совсем расслабился, обзавелся молодой женой и первой поэтической книжкой. Он с молодости грешил стишками, а тут его так забрало, что он даже вступил в СП и на его слова одно время распевали шлягер. На служебной даче в Переделкино у него резвился огромный черный терьер. Словом, человек изменился, бывает же такое. Стал вполне светским. Я говорю это без иронии.
Я не знаю даже, что для меня более важно — вот эти его внешние перемены, или мужественный поступок, который он совершил, когда вдруг со Старой площади запросили на меня характеристику. Поройков не унизился до «чего изволите», хотя понимал, что от него ждут. Он написал то, что соответствовало его отношению ко мне.
Четыре месяца мы болтались с Игорем без дела. Комсомол от нас отвернулся. «Комитетчики» больше не беспокоили. Вея пишущая Москва знала нашу историю. Мы заходили в Дом журналистов в надежде кого-нибудь встретить, получить приглашение на работу, но от нас отворачивались. Или, любопытства ради, спрашивали: правда ли, что брали отпечатки пальцев? Я смотрю, как порой отчаянно сражаются сегодня журналисты с мафиозной властью и добывают свои репортажи с гражданских войн, и мне делается стыдно: как же трусливы были мы, их коллеги, в середине семидесятых.
В газетах во всю клеймили Солженицына. Повсюду чудились диссиденты, заговоры. Только что была разоблачена группа Якира, чуть ли не двести человек, продиктованных им. Чем больше, тем лучше, считал он, всех не посадят. Нам такая позиция представлялась странной. Мы с Игорем придерживались иной точки зрения.
В этой нервной, неспокойной обстановке пополз слух, что нас заложил Александр Янов. По пути туда он в Вене назвал в интервью двадцать человек, отвечая на вопрос о том, с кем ему было хорошо на Родине. И среди прочих — нас.
Мы с грустью думали: неужели Саша?
Янов уезжал странно. Намекал, что его выталкивает КГБ, что ему грозят расправой. Волновался: приживется ли в западном мире? Считал, что абсолютно не способен к иностранному языку. Отчаявшись, полагался на свою предприимчивую Лиду.
Прощаясь, мы условились с ним о способе, как он подаст мне весть о себе. Наивные люди, мы громоздили сложности там, где их не было.
Прошло несколько лет, и мы, никому не нужные, проживали в Союзе в соответствие с рекомендацией одного цековского либерала: «Пусть помучаются!» — а Саша Янов завоевывал американский рынок. И по информации, доходившей до нас, преуспевал в Беркли, «красном» университете.
Существовало ли то его интервью «на полустанке», на пересылке в австрийской столице, где переводились стрелки с Израиля на США, не знаю. Ребята из чешской газеты «Млада Фронта» говорили нам: «Читали». Знакомые поляки подтверждали: видели. Но мы не исключали и «утку», запущенную КГБ.
Еще долго оставался осадок от тех месяцев взаимного недоверия.
Добавило беспокойства услышанное по «голосу» интервью, которое дал Александр Исаевич Солженицын. Оно начиналось словами: «Я — не эмигрант». Исаич разбирал нынешнюю волну, сравнивал с прежними, выделил «политику» и «одессу», никого не назвал по имени и вдруг сказал: «Вот Янов, в прошлом коммунистический журналист, приехавший как политический эмигрант. И что же видим? Поперек „Нью-Йорк таймс“ заголовок его статьи: „Брежнев — миротворец! Держитесь Брежнева!“»
Читать дальше