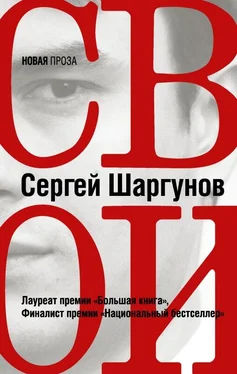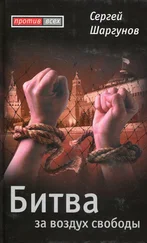Прихватив собаку, вышел из калитки и на мгновение помедлил над вытянутыми и темными, похожими на готические башни, стеблями крапивы. Приблизил губы к почтовому ящику в полуоблезлой серой краске и хулигански подул: ответом была гулкая пустота, больше ни одного письма. Собака, задирая морду, вопросительно гавкнула.
Он тронулся, и она понеслась знакомым путем, безродная вестница осени, мимо заборов, дач, трав, деревьев, кустов, огородов, мимо сладостных оттенков разлуки. Она перемахивала канавы и, дурея от шорохов, бросалась в сухую листву и возбужденно каталась.
Прогулка была охотой. Ему хотелось отзываться на все увиденное пускай и не точной, но необычной, первозданной метафорой. Он торопился по нескончаемой галерее, где каждую картину обрамляла туманно-золотистая рама живительного солнца и жалостного увядания. Именно сейчас, среди сияния и тления, подтверждалась его догадка: все на все похоже, все сравнимо со всем…
«Не сравнивай: живущий несравним», – мелькнула строка давно сгинувшего приятеля. Он остановился возле разросшегося куста с глянцевитыми ягодами черноплодной рябины, похожими на маленькие боксерские перчатки. Сорвав ягоду, раздавил между языком и нёбом, выпуская вяжущий сок, и так держал, смиренно, как таблетку. Взгляд его, проплыв по узкому, чешуйчатому телу сосны, утоп в безоблачной, словно неживой, вышине. Медово-восковое дыхание земли мешалось с терпким дымом сжигаемых трав, и он, запавшими глазами целуясь взасос с синевой, вообразил, как хорошо легла бы на окрестность мелодия заупокойной литии – речитатив священника и блаженный женский напев. Оторвался от небес и с резким нажимом прочертил палкой прямую линию, обнажая влажную почву под ветошью листвы. Двинулся дальше. Собака, торкая носом, обнюхивала что-то на обочине, в чем его безошибочно острый глаз опознал еще издалека нарядный подарочный мухомор.
Многие цветы уже отцвели, опали и превратились в семена, но не все. Вдоль заборов сочные заросли золотых шаров сменяли невысокие оранжевые фонарики, будто склеенные из ломкой бумаги.
Он уловил горьковатый аромат детства и увидел сквозь просветы на чужом огороде многочисленные кустики бархатцев с ярко-оранжевыми и темно-пожухлыми головками. В детстве их называли чернобривцами.
И тотчас нахлынули и прильнули смутные видения… Он продолжал идти, вспоминая какую-то ужасно важную чепуху, например, как однажды ранней весной с одной девочкой совершил загородную прогулку к морю, и на обрыве они собирали дикие фиалки под прошлогодней листвой… Другое время года и жизни.
Последние дни многое напоминало о той далекой девочке… Как там она? Жива ли?
Она притягивала мысли, но никакую метафору почему-то не получалось подобрать к ее неуловимому образу.
Страшно и смешно думать, какая бездна времени отделяла его от некоторых событий. Сама жизнь казалась ему приснившейся. Детство и юность определенно были сном, таким странным и недавним. Он родился в Одессе на пороге двадцатого века и хорошо, в деталях помнил себя с малолетства. Провалив экзамены в гимназии, добровольцем, или, как тогда выражались, охотником ушел в огонь Первой мировой. Вернулся в свой город, но война перенеслась за ним, власть менялась несчетное множество раз, заставляя служить то белым, то красным, то снова белым. Он косил петлюровцев с бронепоезда «Новороссия», когда его скосил сыпной тиф, из-за чего он не отплыл, как другие, в спасительный Константинополь, а едва встав с постели, попал под арест, в темную камеру смертников. Чудом избежал расстрела.
А та, от которой сейчас не хватало письма, весточки, привета, успела уплыть, пока он томился в жарком беспамятстве, путешествуя по окраинам потусторонней страны.
В сущности, его с ней ничего не связывало…
Но он часто фантазировал, как бы они жили на чужбине.
Их очень много. Их – избыток.
Их больше, чем душевных сил —
Прелестных и полузабытых,
Кого он думал, что любил.
Так он в час ночной московской бомбежки записал в дневник.
Ее звали Зоя – и она была, наверное, единственная из множества.
Они познакомились детьми и провели рядом подростковые годы. Одна компания молодежи из хороших семей: устраивали вечеринки, играли в преферанс, гуляли по набережной, ходили на яхте в открытое море.
Валя и Зоя редко оставались наедине: как-то раз похристосовались на Пасху у белого храма, где его отец был старостой и чтецом, и она смущенно смеялась, подставляя смуглые зарумянившиеся щечки. Он никогда не мог точно воспроизвести ее внешность: невысокая, хрупкая, кареглазая, с темно-каштановыми волосами, имевшими золотистый отлив. Ничего особенного. Простая, пресная, неприметная, но с легкой примесью степной колдовской полыни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу