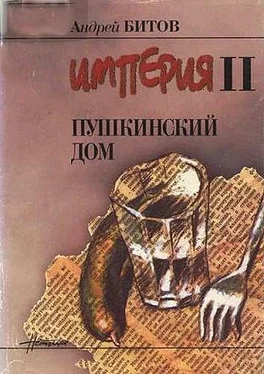И только тогда автор сможет как-то вздохнуть и испытать маломальское удовлетворение, если кто-нибудь из этих сгустков, из этих персонажей, вдруг все-таки сможет обрести сюжет и хоть разорвать, хоть вкрапленником войти в сюжет категории, который уже томит своей однообразностью, своей примитивной передачей, своей неизбывностью и нарушением всех энергетических законов, не только не теряя в силе, но словно «с ничего» возрастая, от самого себя… И вот, если кто-нибудь обретет этот сюжет, скорее всего погибая, и все окрасится трагедией: человек обретает сюжет, сюжет обретает человека… — хоть одна цепь окажется законченной, и в конце ее покажется светящаяся точка, как выход из лабиринта в божий мир, точка света, которая, может, и не осветит, но хоть силы какие придаст хотя бы и автору: добраться до конца, — хоть что-то задрожит, как далекая звездочка, пусть недосягаемая, — хотя бы видимая невооруженным глазом. И если так, дай Бог, случится с повествованием, чего искренне жажду, на что уповаю, и начнется сюжет не категории, а хотя бы одного сгустка, хотя бы Левы, я с радостной жестокостью дам ему даже погибнуть во имя его сюжета, лишь бы не вернуться к сюжету проклятой «категории». (Как мне недавно рассказал один образованный человек, в древние времена, при приготовлении целебного бальзама, в варево из меда, трав и прочего бросали живого раба, непременно живого, чтобы он, погибая, в мгновение перехода отдал составу свою жизненную силу, растворившись в нем…) Ну, а как он не погибнет, не полезет в мой чан — и мне не удастся разрушить этой цепочечки, этого ручейка предательств — и все замкнется в кольцо? — то повествование покончит с собой, как скорпион, ибо и скорпион образует кольцо в этот свой последний момент… не дай Бог автору задохнуться в собственном воротничке! Одеяло, видите ли, его душит…
Третья часть, третья часть! Господи, дай силы завершить содеянное…
Когда ночная роса и горный ветер
освежили мою горящую голову и мысли
пришли в обычный порядок, то я понял,
что гнаться за погибшим счастием
бесполезно и безрассудно. Чего
мне еще надобно? — ее видеть? — зачем?
не все ли кончено между нами?
(Глава, в которой первая и вторая части сливаются и образуют исток третьей)
Сейчас нам придется забежать вперед и изложить эпизод, по последовательности принадлежащий лишь будущей, третьей части романа; этот эпизод, однако, очень нам нужен именно здесь…
На праздники Леву оставили дежурным по институту. Было у них такое заведение.
Лева спал на директорском диване и видел сон. Разбудил его звонок Митишатьева. Митишатьев собирался его навестить. Очень важное дело…
Опять та же таинственность… Лева добродушно усмехнулся этому постоянству. Лева прекрасно знал, что это за «важное дело», — Митишатьев хлопотал по поводу юбилея их школьного выпуска, организовывал встречу. «Уже четырнадцать лет!» — растрогался Лева.
И проснулся. Он был рад, что проснулся другим человеком. Вчерашнее намерение утром поработать, несмотря ни на что: ни на злополучный разговор с Фаиной, ни на все эти праздничные неудачи, — пометавшись секунду, легко исчезло… и остался всего лишь Лева, радующийся подвернувшемуся случаю быть не одному, а на людях, без необходимости вести тяжкий диалог с самим собой; Лева, отпустивший вечного своего партнера (двойника); Лева, вскакивающий с дивана, потягивающийся неловкими членами, криво улыбающийся, протирающий глаза, собирающий у конторского зеркала свое разбежавшееся лицо в некое частное целое; Лева, вдруг направляющийся к окну и выглядывающий в него…
Это было неожиданное и неоправданное движение, проделанное уже другим Левой, внезапно вернувшимся. Как уж там замкнулось в его мозгу, таким легким мостом соединив две точки, столь удаленные, трудно объяснить, как и во всем последующем сейчас куске трудно установить последовательность, что после чего и что в результате чего, и трудно не перепутать причину со следствием, чем дальше, тем больше являющихся полным равенством в отношении моего героя, — но он подбежал к окну с той внутренней легкостью и невесомостью ребенка, которая не имела никакого уже внешнего выражения: он протопал поспешно к окну, что-то подтолкнуло его поскорее выглянуть в него. И пока он подбегал к окну и выглядывал в него, небольшая мысленная картинка вставала перед ним, будто объясняя его внезапную детскую легкость. Картинка была из «Трех мушкетеров», в том виде и ощущении, какое было вот тогда, давно-давно, лет так двадцать назад, когда он, вернувшись из школы, в пустой квартире сидел, с ногами в мягком кресле, напялив отцовскую ермолку и прихлебывая чересчур сладкий чай из стакана в фамильном подстаканнике (вензель с подстаканника стоял внизу картинки, как подпись художника). На картинке г-жа Бонасье в монашенском одеянии, такая прелестная, подбегала к узкому монастырскому окну и застывала в той неостановившейся позе: как бы еще бежала туда, за окно, и дальше, ступая легкими ногами уже по воздуху; замерев, выглядывала она в окно, а там скакал спасительный и надежный д'Артаньян, и плащ его развевался с крестом мушкетерским; но было уже поздно: она могла подбежать к окну, могла выглянуть, — но простоять в этой своей стремительной позе не могла дольше, чем д'Артаньян, стуча запыленными каблуками, вбежал бы по монастырской лестнице, оттолкнув шпионку-настоятельницу… А там госпожа все падала и падала, сладко охнув, так медленно, что д'Артаньян успевал пробежать всю залу и подхватить ее, падающую, и лишь тогда она испускала дух на возлюбленных руках, и этот вздох был последним поцелуем, таким сладким, что, что же делать, как не умереть! — продолжения уже быть не могло… Фаина, о Боже, Фаина! Она падала у высокого стрельчатого окна, и успеть можно было лишь подхватить ее, но уже мертвую, обрекающую ее д'Артаньяна лишь скакать и скакать до самой смерти, чтобы плащ его развевался…
Читать дальше