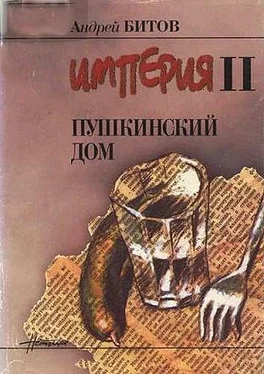На вид ему было лет тридцать, если только можно сказать «на вид», потому что вид его был ужасен. Бледный, как существо из-под камня, — белая трава… в спутанных серых волосах и на виске запеклась кровь, в углу рта заплесневело. В правой руке был зажат старинный пистолет, какой сейчас можно увидеть лишь в музее, другой пистолет, двуствольный, с одним спущенным и другим взведенным курком, валялся поодаль, метрах в двух, причем в ствол, из которого стреляли, был вставлен окурок папиросы «Север».
Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех… Что делать? Куда заявить?..
Новый порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые в это измочаленное и мертвое утро одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе.
Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался.
Ветер умчался, но мы вернемся в нашу залу…
От звона разбитого стекла по безжизненному телу пробежала конвульсия и дрожь; раздался звук, напоминавший мычание. Тело выпустило из рук пистолет, с трудом высвободило из-под себя вторую руку и, упершись обеими в пол, попробовало приподняться. Но — рухнуло, со стоном.
Так еще в бессилии полежав, оно ощутило наконец холод и неудобство и более решительно приподнялось на руках. Покрутило головой, помычало и еще лишенным сознания взором уперлось перед собою в пол. Перед глазами оказалась толстая папка, служившая в эту ночь изголовьем. Человек (назовем теперь так наше «тело») долго и тупо смотрел на эту папку. На ней был наклеен белый квадратик с четкой надписью: М. М. МИТИШАТЬЕВ. ДЕТЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В РУССКОЙ РОМАНИСТИКЕ 60-х ГОДОВ (ТУРГЕНЕВ, ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ДОСТОЕВСКИЙ), диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук…
Человек, будто что-то наконец сообразив, будто что-то пролетело в его сознании и связало его жизнь с сегодняшним утром, будто испугавшись и все еще не веря… вдруг резко перевернулся и сел.
Раз уж он повернулся к нам лицом, мы не можем больше продолжать делать вид, что это мог быть кто-нибудь еще, кроме Левы. Это был Лева. Хотя, может, и не было преувеличением, что мы его не сразу узнали — мы его никогда еще таким не видели…
Он стремительно приходил в сознание (почему-то принято в таких случаях писать «постепенно» или даже «медленно»). Не дай Бог вам когда-нибудь проделывать это с той же скоростью. Он приходил в сознание — сознание приходило к нему. Они сближались, как в дуэли. До «барьера» было уже недалеко. (Это, однако, странный каламбур: неприятно приближаться к барьеру сознания оттуда, с той его стороны.)
Он обвел взглядом залу: рассыпанные рукописи, лужи, растоптанный гипс, битое стекло, — классический ужас выразил его взгляд, лицо, и без того бледное, побледнело так, что мы перепугались, не потеряет ли он сознание.
Лева вскочил и со стоном ухватился за голову. Это была спасительная боль: она отвлекла его. Он стоял, пощупывая голову, там была здоровая шишка, причиненная вчера шкафом. Впрочем, ничего серьезного: он жив, наш герой… Он взглянул в окно — окно взглянуло на него.
Он подходит к окну, из которого ужасно дует. Он еще не вполне он: он подходит для себя еще в третьем лице… Выглядывает. Нет, сегодня там уже не идет Фаина… Холодный ветер еще проясняет нам Леву. Мы на него дышим и протираем тряпочкой. Он — отчетлив. Бедная погода за окном совсем осатанела.
Сознание выстрелило. Дым рассеялся. И мы видим Леву…
Лева поворачивается к нам. И это уже он, он — сам. Смертельная ровность на его челе. Кажется, он все вспомнил. Он смотрит перед собой невидящим, широкоразверстым взглядом в той неподвижности и видимом спокойствии, которое являет нам лишь потрясенное сознание. Ему холодно, но он не замечает этого. Однако его бьет жестокий озноб.
«Что делать! — думает, пожалуй, он… — Что делать?»
А что делать?..
«Это — конец», — думает Лева, не веря в это.
(КУРСИВ мой. — А.Б.)
И впрямь, это конец. Автор не шутил, пытаясь убить героя. Лев Одоевцев, которого я создал, — так и остался лежать бездыханным в зале. Лев Одоевцев, который очнулся, так же не знает, что ему делать, как и его автор не знает, что дальше, что с ним — завтра. Детство, отрочество, юность… а вот — и ВЧЕРА прошло. Наступило утро — его и мое — мы протрезвели. Как быстро мы прожили всю свою жизнь — как пьяные! Не похмелье ли сейчас?..
Читать дальше