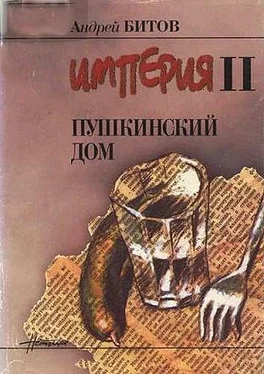Теперь, по окончательном возвращении, дядя Митя и не поминал о том, что дарил эти мебели когда-то. Все эти годы помнил он про то, что так и не успел обставить квартирку, и первое, что сказал после разлуки Одоевцевым, был перечень имущества, данного им на временное хранение. Там оказался еще чемодан с подтяжками и туалетными принадлежностями, как то: бритва «Жиллетт» {26} , набор щеток для волос, — и несколько репродукций, вырезанных из старых журналов. Перечислив и выматерив матушку за то, что она гладила на его тумбе, чем повредила безупречность поверхности, — он все это свое имущество забрал и перенес этажом выше.
Мама, право, была счастлива от рассказов о том, как дядя Митя, на самом-то деле, забрал дареные вещи… Но скупость дяди Мити, даже жадность, которая имела и еще мелкие поводы проявляться, — и они были для Одоевцевых самыми милыми чертами на свете. Да и сам дядя Митя, ядовито складывая беззубый рот, любил подчеркнуть, что да, скуп, что как сын казанского трактирщика… и тут он приписывал себе знаменитый анекдот про щи и таракана, что это будто бы с его отцом было… — он быстро хмелел, налитый брагой жизни по уши, про кабатчика он преувеличивал… А Лева все удивлялся, что у дяди Мити и недостатки были чертою и их можно было любить. Личность.
Воздух в их квартире еще передвинулся, будто бы одну, заваленную, комнатку, про которую всегда помнили, но забыли, — разгребли, свезли дырявые венские стулья на дачу, и там им так подошло стоять на участке под дождем, а здесь вымыли окошко, и оно оказалось на другую сторону — прямо в сад… Вечерами приходил дядя Митя со своим графинчиком (вензель «Н» с палочкой внизу {27} ), и все сходились на кухне. Такого Лева и не помнил, чтобы они когда-нибудь были вместе, хотя было их всего трое… Даже отец, и будто охотно, покидал свой кабинет, темный плацдарм шагов, и выслушивал острую и пустую болтовню дяди Мити с видимым удовольствием. Будто всю жизнь таил он в своем кабинете, слушая свои шаги, секретную праздность, и так истосковался там. При дяде Мите отец почти перестал щуриться… Мама смотрела на дядю Митю с улыбчатой любовью, и, когда отводила взгляд, через сахарницу или ложечку, на отца или Леву — еще не успевала изменить выражение, и свет этот проливался и на них, и все они, переводя взгляды с дяди Мити кратко друг на друга, не успевали отменить свой взгляд и счастливели от этих полувыражений полутепла взглядов на полпути и, не понимая, не узнавая этого счастья, подмигивали друг другу с любовью, мол, какой хороший человек дядя Митя… Левин дом оттаивал, и будто это именно бездомный дядя Митя создал им дом. Дяде Мите позволялось многое, больше, чем кому бы то ни было, и больше, чем себе. Зачем-то нам это надо — позволить другому все о себе…
Однажды, когда дядя Митя что-то очень удачно и точно сказал, а мама рассмеялась так счастливо, а отец — так неестественно, а сам Лева был так несчастен (от ревности, все та же Фаина), — и подумал он, взглянув на отца с неприязнью, что, на самом деле, отец его — дядя Митя.
У мамы оказалась «молодая» карточка дяди Мити, довоенная, с любовной надписью — красавец, элегант, благородный сердцеед… Лева постоял с фотографией перед зеркалом, поделал лицо и — совсем убедился. Дядя Митя был и старше-то отца всего лет на десять, а что без зубов — то немудрено, рассуждал Лева, будто вступал в неравный брак. И правда, своей худобой, поджаренностью и поджаростью, а главное, прозрачностью своей злости был дядя Митя моложе выкормленного, все избежавшего отца. Примерил отчество: Лев Дмитриевич, — не хуже Николаевича…
И не то чтобы дядя Митя что-нибудь особенное говорил. Был он хорош, пьянея, все большей определенностью и трезвостью к миру. «Говно», — вот был итог, но чуть ли не светлело от этих дядимитиных итогов, потому что сомнений каждый раз не возникало: он был точен и прав. Как всякий незаурядный алкоголик, обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканья — все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то и это в ответ, и мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать, а потом — не говорил ни того, ни этого, потому что ни то, ни другое, ни третье того не стоило — вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания.
Лева раз при нем заикнулся, что зря пошел по стопам отца, вздохнул о «чистой» ботанике… Дядя Митя развеял эти остатки Левиного «академического» благоговения, потому что это было тоже «говно». Оказалось, дядя Митя после войны определился как раз в такой институт и потому точно знал, что «этот твой» Ботанический институт — говно, банка с пауками: чем тише и эстетичней на верхний взгляд, тем, можешь быть уверен, внутри, в тишинке да в глубинке, такая грызня, такая паучья возня… оттуда-то и потопал он, дядя Митя, по этапу. «Я — хозяйственник. Ну, какое мне дело до Менделя и Моргана?! А директор, падло этакое, думал, что я с ним не здороваюсь, потому что осуждаю его за травлю морганистов — и упек. А я просто не привык сволочам руку подавать. При чем тут Мендель — когда у него по роже видно, что — сволочь!.. Вот и возвел на меня напраслину, говно!» И от того, что и этот институт, и его директор, и бедный Мендель, который уж ни при чем, и даже погода стала говно, становилось Леве свободно и весело, не знаю, как даже объяснить такой эффект.
Читать дальше