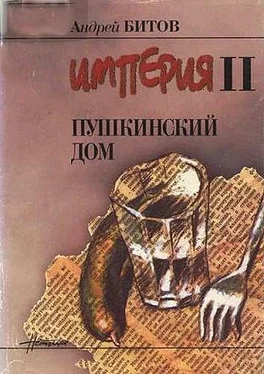— Не скорость вызывает опьянение, а опьянение — есть скорость! — провозгласил Лева.
— Браво, браво! — И все выпили.
Лева помнил входы — и не помнил выходов… Что-то есть точное в Левином определении «опьянения», по крайней мере, в отношении самого Левы: чем более отекал он в неподвижность и отсутствие тела, чем бездейственней было его вещество — тем стремительнее неслось его существо, с перестуком сердцебиения на стыках и стрелках; все сливалось вокруг от этой скорости, размытое и смазанное.
Все реже встречались полянки по сторонам движения, все разряженней становилось удаление, вдруг — стоп, остановка, крутая волна инерции и яркий свет, останавливалось и фокусировалось пятно освещенности, в него умещалась новая чья-то маска, скорее, менее, чем более, удачная, мелькало название станции — что-нибудь подмосковное: Особая, Маленковская, — и состав трогался дальше, стремительно рвал с места, на секунду оставляя позади себя свое вещество; Лева бурел от перегрузки, потом скорость становилась привычной, и в две равномерных и неразличимых полосы сливались и зримость и освещенность.
Так мчал Лева, где время отмерялось не пройденным расстоянием, а количеством остановок. На некоторых он пробовал выйти, но как-то не успевал.
— Нет, не водку люди пьют! — восклицал он на следующей станции. — Люди пьют время!
— Гений! — уверенно восхищался Митишатьев.
— Слышите?., пьют часы! — Слезы навернулись у Левы на глазах от слова «гений».
Так не помнил Лева самих перегонов; они были «состояние» — скорость, расстояние и время: их-то он и пропивал… Помнил он лишь станции и полустанки, но не помнил, которая после какого. Они перемешивались в его голове, как мелочь в кармане: в любом порядке, но каждая — отдельно, в силу приданной ей номинальной формы.
Озарения приходили к нему в голову, он растрогивался от их пронзительной силы, в голосе появлялась предательская дрожь, когда пытался высказать их вслух. Например, отделив в себе вещество от существа, понял он, что вещество — это растение, а существо — это животное…
Курьерская жизнь животных и почтовая — растений… — сказал он, никто не понял, и Лева обиделся: так ведь сказал прекрасно! — но он и сам забыл контекст (долго расшифровывал я впоследствии эту фразу, нацарапанную Левой для памяти на папиросном коробке…).
Не мог он вспомнить, когда и при каких обстоятельствах испарился Бланк. Помнил, что на предыдущей станции он еще был, а на следующей — его уже не было. На предыдущей станции дали внезапный свет на потрясенного Бланка: бритые его, как молоко, щеки прыгали над фарфоровым воротничком, он их успокаивал, опирая на его твердость; в этом было продолжение той же линии, что образовывала его пухлая, белейшая рука на набалдашнике трости, — и то и другое «покоилось». Но покой этот был выражением глубочайшего возмущения и гнева, при котором над воротничком так и трепыхались и вились, как ленточки на ветру, слова, многочисленные и непроизнесенные. Был освещен, но не так ярко, и Митишатьев, подчеркнуто отчетливый и экономный в движениях, однако невообразимая суета видна за этой экономностью, будто под кожей что-то прыгало и бегало, небольшое, вроде мышки, хоть и невидимое: так выглядит всякий невоспитанный человек, отравленный представлениями о тоне и лоске. Изображение включалось для Левы, когда он опускал опустевший стакан, — и было непонятно, кто из них только что говорил, а кто собирался ответить, Бланк или Митишатьев; в углу, подчеркнув сдержанностью иронию, поблескивал золотым зубом шкаф (значит, тогда он еще не ушел…), И переждав, но так и не сказав Митишатьеву, Бланк обернулся к Леве, сменив гнев на растерянность.
— Лев Николаевич! что же вы молчите? — детским от невообразимости происходящего голосом говорил Бланк; брови его дальнозорко всплывали, будто он отодвигал руку с Левиным изображением.
— Что? я не слышу… — говорил Лева с митишатьевской улыбочкой на лице. Она плавала в бесформенных уже чертах, как клецка в супе.
— Как? — Брови замелькали на лбу Бланка, как бегущее изображение в телевизоре: брови… уплыли… и снова — брови.
— Да вы не волнуйтесь, — встревал Митишатьев, — я ведь только что хотел сказать… Вот вы намекнули, что, в таком случае, я сам тоже могу оказаться еврей… Верно! могу. Я ведь не знаю своего отца. И мать, кажется, тоже, — тут он оскалился как бы ледяной усмешкой много видевшего и страдавшего человека. — В таком случае, именно вы — можете оказаться моим папой. Как в классическом сегрегационном романе о капле крови… Ничего странного или удивительного — придется вам с этим считаться. Оригинальный вариант «Отцов и детей», написанный Виктором Гюго в соавторстве с Говардом Фастом… {79} .
Читать дальше