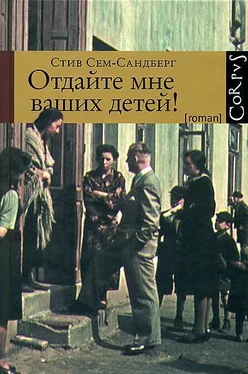Его Kinderkolonie ширилась и процветала.
Шестьсот детей-сирот жили в Еленувеке круглый год, и все видели в Румковском отца, и все радостно здоровались с ним, когда он проезжал по длинной аллее. В карманах пиджака у него было полно сластей, которые он разбрасывал, как конфетти, чтобы убедиться: это дети бегают за ним, а не он за ними.
Но господин Смерть есть господин Смерть, во что бы он не рядился.
Есть такой дикий зверь, рассказывал он как-то детям из Зеленого дома. Он сотворен из частей всех зверей, каких только не сотворил Всевышний. Хвост у этого зверя раздвоен, ходит зверь на четырех лапах. У него чешуя, как у змеи или ящерицы, а зубы острые, как у дикого кабана. Зверь этот нечист, брюхо его волочится по земле. Его дыхание жарко, словно огонь, и обращает все вокруг в пепел.
Этот зверь пришел к нам осенью тридцать девятого года.
Он изменил все. И люди, которые раньше жили мирно, стали частью тела этого зверя.
Через день после того, как немецкие танки и армейские грузовики проехали по площади Свободы, эсэсовцы, напившись дешевой польской водки, пошли по главной улице города, Пётрковской, вытаскивая еврейских торговцев из магазинчиков и такси. Это называлось — требуется дешевая рабочая сила. Евреям даже не дали времени собрать вещи. Их сгоняли в большие группы, строили в шеренги и приказывали маршировать в том или ином направлении.
Торговцы позакрывали магазины. Кто сумел — забаррикадировался у себя дома. Тогда оккупационные власти издали приказ, позволявший гестаповцам входить во все дома, где скрываются евреи или где они, по слухам, прячут свои богатства. Любая ценная вещь конфисковывалась. Тех, кто протестовал или сопротивлялся, принуждали у всех на виду выполнять унизительные задания. Высокопоставленный гестаповец сплюнул на тротуар. Трем женщинам пришлось драться за право первой вылизать слюну. Других женщин отправляли чистить общественные туалеты своими зубными щетками и бельем. Мужчин, молодых и старых, впрягали в телеги и фуры, доверху нагруженные камнями или мусором, и заставляли возить их с одного места на другое. Потом разгружать, потом снова нагружать. Поляки молча стояли рядом или выкрикивали слова глупого одобрения.
Члены еврейского совета пытались договориться с новыми властями; все вместе или каждый сам по себе они выступали против нового немецкого штадткомиссара Ляйстера. Наконец Ляйстер согласился принять некоего господина Кляйнцеттеля в «Гранд-Отеле», где он как раз совещался с шефом полиции Фридрихом Юбельхёром. У доктора права Кляйнцеттеля был при себе письменный протест против экспроприации еврейских земель и имущества, имевшей место после того, как немцы вошли в город.
У гостиницы рос высокий грецкий орех. Через двадцать минут два человека в эсэсовской форме вывели Кляйнцеттеля из гостиницы. Они взяли длинную веревку, связали доктору локти и ноги под коленями и подняли его так, что он повис на дереве, раскачиваясь вверх-вниз. Собравшиеся вокруг дерева поляки сначала пришли в ужас. Но потом их рассмешило, как корчится подвешенный на дереве Кляйнцеттель. В толпе были и евреи, но никто не посмел вмешаться. Часовые, бездельничавшие у гостиницы, стали швырять в Кляйнцеттеля камни, чтобы прекратить его крики. Вскоре кто-то из поляков тоже бросил камень. Наконец на дерево обрушился целый град камней, и человек, повисший на нем, как летучая мышь — полы пальто падали ему на лицо, — перестал дергаться.
Одним из тех, кто наблюдал побиение доктора Кляйнцеттеля камнями, был Хаим Мордехай Румковский. Он хорошо помнил, к чему может привести швыряние камней; к тому же он полагал, что кое-что знает о звере, шершавая шкура которого уже покрыла собой живших в городе поляков. Он полагал, что знает: говоря о евреях, немцы говорят не о людях, а о потенциально полезном, хотя и неприятном материальном ресурсе. Еврей сам по себе — некое отклонение; дико полагать, будто еврей обладает индивидуальностью. Евреев можно воспринимать лишь в форме коллектива. Строго определенная численность. Квоты, количество. Так думал Румковский: чтобы зверь понял тебя, надо самому начать думать как зверь. Видеть не одного, а многих.
И он написал Ляйстеру письмо. Он тщательно подчеркнул, что выражает свое сугубо личное мнение — совсем не обязательно, что его разделяют другие члены лодзинской кехилы. В письме же содержалось такое предложение:
«Если вам нужны семьсот рабочих — обратитесь к нам: мы дадим вам семьсот рабочих. Если вам нужно тысячу — мы дадим вам тысячу. Но не сейте ужас среди нас. Не отрывайте людей от работы, женщин от дома, детей от родителей. Позвольте нам жить в мире и спокойствии — и мы обещаем помогать вам как сможем долго».
Читать дальше