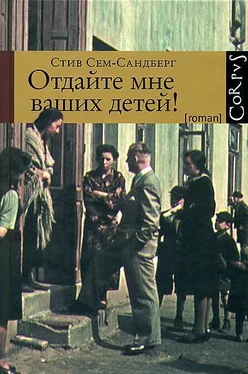Но крик все равно оставался в нем.
И причиной крика было жуткое — быть, но нигде не находить себя.
Он увидел себя в платяном шкафу. Рядом лежала голова — не его, но каким-то образом ему принадлежавшая. А где-то поблизости председатель собрал разбросанные части своего тела и двинулся через темноту к нему, и его кожаный фартук набряк от крови: ему пришлось отсечь множество членов, чтобы пройти этот путь — к своему единственному возлюбленному Сыну.
Председатель пропадал весь тот день и половину следующего. Лишь на второй день, около половины одиннадцатого, Эстера Даум из секретариата позвонила и сообщила, что владыка, похоже, вернулся невредимым. Он приехал из города на «арийском» трамвае, каждый день ходившем через Балут; на нем был тот же костюм и плащ, что и в день, когда его забрали в гестапо. Вернувшись, он первым делом заперся в кабинете и до сих пор сидит там, доложила госпожа Даум, а перед тем как запереться, велел звать ближайших сотрудников, одного за другим.
В недрах своей темноты Сташек представлял себе, что лежит спиной к стене.
Стена походила на кирпичную стену возле дубильни во дворе, только без выпавших кирпичей. Он лежал, прижавшись спиной к холодной твердой поверхности, и в темноте перед ним стоял мальчик с деревянным крестом, с которого свешивались на веревочках и шнурках всевозможные бутылки и склянки с лекарствами и микстурами.
Словно руки и ноги марионетки со спутанными, перекрещенными нитями, они с меланхоличным позвякиванием ударялись одна о другую. Звук был как от воды, если бы только здесь текла вода, или как отдаленный стук копыт и шорох колес пролетки по мощенной булыжником улице. Женщины, о которых рассказывал бутылочный мальчик, лежали по обочинам дороги или во дворах — некоторые все еще прижимали к себе детей, иные лежали, широко раскинув ноги, словно трупы животных, и никого не заботило, как они выглядят; мертвые тела просто хватали и забрасывали в грузовик, как мешки с мукой.
В высоком голосе бутылочного мальчика была такая печаль, когда он рассказывал об этом, что Сташек плачет. Он плачет не из-за бутылочного мальчика, и не по своей мертвой матери, и не обо всех остальных умерших — он плачет по самому себе. Он плачет оттого, что лежит лицом к стене. И оттого, что эта стена отделяет его сегодняшнего от того, каким он когда-то был, оттого, что стена высока и за ней ничего не видно, ничего не слышно, лишь пустые бутылки позвякивают каждый раз, когда невидимое тело, задача которого — носить их, поднимается и снова падает, поднимается и падает; и голос Моше Каро монотонно читает об обещании Всевышнего тем, кто растратил, и из пророка Иезекииля — текст, который он сам должен читать на своей бар-мицве:
«И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом».
Должно быть, он задремал — в следующее мгновение бутылочный перезвон растаял, и запах табачного дыма густо повис в воздухе. Сташеку не надо оборачиваться, чтобы понять — председатель в комнате и, наверное, он здесь уже долго. Снова на нем коварно высматривающая что-то голова, Сташек замечает это и опять начинает плакать. Он, хитрец, решает не понять председателя. Кровать прогибается, когда председатель садится и осторожно, словно драгоценность, трогает подбородок Сташека:
— Не печалься, мальчик. У меня для тебя кое-что есть. Посмотри, какое вкусное.
Пакет разворачивается, бумага шелестит. Вскоре тонкие, похожие на соски животного пальцы проникают ему в рот с первыми кусочками хлеба. Он быстро глотает, чтобы прогнать спазм дурноты, который волной проходит через все тело.
— Я говорил с Моше Каро. Он сказал, что ты делаешь большие успехи. Я горжусь тобой.
Председатель мажет ему губы большими кусками чего-то с запахом прогорклого масла, за ними следуют хлеб, засахаренные персики, джем. Слезы льются от отвращения и тошноты, но Сташек сосет, слизывает и послушно глотает. Вот густые взбитые сливки. У председателя полная ладонь; он прижимает ее к губам мальчика, чтобы тот слизал все.
— В первый шаббат после Хануки мы отпразднуем твою бар-мицву.
Председатель вытянулся на кровати, он лежит на спине, обхватывает Сташека за грудь, за пояс липкими руками. Они шарят, скользят вниз по позвоночнику, длинными мазками размазывают густое масло между бедрами — и все время густое сопение, словно большая тяжелая машина пыхтит за спиной; вот два пальца вползли ему в анус, два других ласкают и гладят вокруг мошонки и пениса, который, несмотря на боль и стыд, твердеет, и внезапная боль заставляет все тело скорчиться, но…
Читать дальше