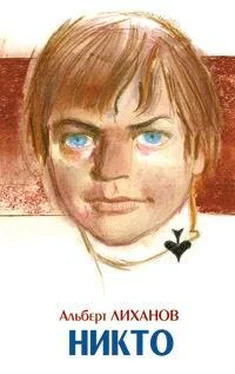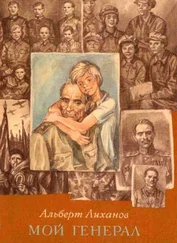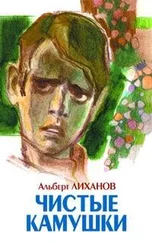Гробы заграничные, тысячи по три, по четыре – баксов, конечно, – красного дерева или под орех, лакированные, с позолоченным крестом поверху, хотя вера ихняя известно какая: все больше мошне, про которую Христос ясно высказался, да это как-то забывают, словцо непонятное вслух не употребляют, истово уверенные, что оно к ним отношения не имеет.
Оркестр из простых дударей эти новые хозяева не признают, отыскивают в филармониях, доходит и до укороченных симфонических оркестров, везут издалека, нанимают за зеленый нал, нищим подают широким махом, как сеятель на старой картинке, – от плеча. Потому и люду при таких прощаниях пруд пруди, могильщиков выходит не пара, как положено при обычном закапывании, а добрая шестерка, а то и восьмерка, восстают из пьяного праха все, кто на ногах, с профессионально скорбными лицами, которые никак не утолят отрыжную святость и наглый румянец.
Ну да Господь с ними…
У Георгия же Ивановича денег на похороны Гошки просто не было, не полагалась такая статья расходов в государственном заведении по имени школа-интернат, и он вертелся как уж на сковородке – есть такое выражение, хотя ужа на сковороде никто никогда нигде не видал.
В общем, он крутился, то собирая свой летучий педсовет, то его разгоняя за бестолковость и разномнение, и все же узлы свои крепкие потихоньку развязывал, определяясь постепенно, что поминки пройдут в школьной столовой, но пустят на них не всех подряд, а только старшеклассников, для чего малышей покормят в срок, а остальные потерпят; что речь над могилой скажут только трое – он, директор, кто-то из воспитателей, только не Зоя Павловна, и, наверное, товарищ по интернату. Тут у него таилась некоторая закавыка, потому что Гнедой сказал бы плохо, Макаров мог сорваться в рев, в истерику, а остальные ребята не так уж хорошо знали Гошмана, потому что или появились недавно, или перешли из другой палаты, или же были вовсе безнадежны для произнесения речи в такой момент. Но поскольку было у Георгия Ивановича еще одно почти неразрешимое дело, выбор говорящего друга на могиле Гошки он пока откладывал, хотя вспомни о Топорове раньше, и главная загвоздка быстро бы разрешилась.
Но что делать? Русский человек силен задним умом, то есть находит выход тогда, когда – всё, проехали и этот выход из положения больше не требуется.
В общем, больше всего заедала и мучила директора мысль, что не хватает у него деньжат на духовой оркестр Гошке. В последнем порыве отчаяния он вызвал группу пацанов во главе с Макаркой и Гнедым, выдал им пару предпоследних сотен, на которые велел купить, во-первых, новые батарейки к огромному кассетнику «Филлипс» – гордости интерната, давнему дару спонсоров, а во-вторых, найти и купить – или взять в аренду – пленки с похоронными маршами. Кровь из носу! Где угодно – но достаньте.
Пацаны, обозначив для самосверки места в городе, где таковую редкую продукцию можно раздобыть хотя бы теоретически, кинулись врассыпную.
По пути в одну из точек и заскочил Гнедой к Топорику, сообщив печальную весть, назвав час, на который назначен выезд из интерната, описав цель, с которой движется дальше, и не забыв поклянчить на курево, что было вполне подходяще – и в смысле повода, и в смысле Кольчиной задумчивости, в результате которой Гнедому перепало куда больше, нежели он рассчитывал.
Скажи он тут старому другу, для чего именно ищет кассету с траурной музыкой, и все было бы решено в один миг – Топорик обладал способностью заказать не то что один – три оркестра, но Гнедой и сам толком не знал, по какой именно причине движется, для достижения какой точно цели принято такое распоряжение, а Кольча сам не догадался.
Дверь захлопнулась, Топорик тупо постоял перед ней, ни о чем не думая, глядя сквозь дерматиновую обивку куда-то вперед, сдвинув центр взгляда в неясную даль, потом пошел в ванную, встал под душ.
Долго стоял под острыми, режущими струйками, подняв лицо кверху, и слезы вымывало водой прямо из глаз. Он, привыкший существовать в бесчувственном мире, даже не понимал, что плачет. Откуда-то из живота, от самого низа, через желудок и диафрагму, вползала в горло, распирая его, душащая тоска, превращавшаяся по мере движения в стон, в плач, в вой.
Этот вопль был схож с рвотой – мышцы живота свело, сцепило какой-то судорогой, из глубины тела, из самых разных его частиц – из легких, из плеч, из кишок, выкатывались наружу остатки не пищи, но какого-то дерьма, какой-то тяготы непонятного свойства.
Читать дальше