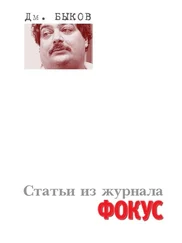— Нормально, нормально, — пробормотал Степанов. Все было сделано точно, со вкусом, фирма веников не вяжет. Правда, увлеклись, копируя, — вот дверь на балкон, ведь они жили на третьем этаже, а какой балкон в одноэтажном деревянном доме? Но он подошел к балконной двери и увидел тот самый пейзаж, с которым вырос, который сменился после переезда, но так и остался любимым и незаменимым. Люди идут с работы (рядом был завод, обычная рабочая окраина Москвы начала семидесятых), троллейбусы поворачивают за угол… Правда, сейчас почти никого не было, но время было то самое: золотистый закат над улицей и далекими капустными полями. Еще дымит толстая приземистая труба, за которую как раз и опускается солнце. Надо будет завтра с утра посмотреть — вдруг там будет утро?
— Я посмотрю другие комнаты, хорошо? — Степанов почему-то спрашивал разрешения, хотя понимал, что этот дом уже его собственность.
— Конечно, конечно, — разрешил проводник, присаживаясь на диван.
Степанов думал, что в соседней комнате будет их комната с Ольгой, но вместо Ольгиной комнаты оказалась Надина, полутемная, грустная, где всегда было так невыносимо жаль всех, и больше всех Надю, беззащитную, беспомощную Надю, которая этой своей беспомощностью опутала его крепче любых сетей, он отлично знал цену всей этой неустроенности и беззащитности, и потому-то сбежал в конце концов, потому что понял, что его уже поймали и сейчас будут жрать; но все-таки нигде и ни с кем он не был так счастлив, как в этой комнате, которую они обставляли вместе, исключительно на его деньги. С Ольгой все было хорошо, нормально, Ольга могла позаботиться о себе, а Надя не могла; но он чувствовал, что Надя играет на этом, а Ольга просто и честно живет, обеспечивая себя, и потому от Ольги не ушел, а Надя не пропала, уехала в конце концов в Англию, но и там, говорят, была несчастна. Комнаты этой больше не было — она продала квартиру, а потом старый дом снесли, это была кирпичная пятиэтажка в районе Рязанского проспекта, но он любил и тополя за окнами, и клумбу под окнами, и даже отвратительных старух у входа. Как-то так получилось, что отдавать, содержать, обхаживать и выхаживать было в его природе, и Надя к этой природе подходила больше; у нее вечно все ломалось, разваливалось, даже новая кровать, которую они выбирали вместе, даже телевизор, который он приволок сам вместо старого, — но и эта хрупкость вещей ему нравилась, все ветшало не просто так, а от соседства с настоящей страстью, всегда разрушительной. И почему тогда не ушел? Все равно ведь ушел потом от Ольги. Ужас в том, что пока отношения живые — они живые в обеих семьях и мертвеют почему-то тоже одновременно, так что и уходить становится незачем. Он мечтал иногда — вот бы эта комната была его собственная; и она теперь была его, насовсем, но без Нади, которая только мешала бы, без слишком понятной теперь Нади с ее замаскированным, хитро спрятанным хищничеством. Это и есть самое лучшее — когда все о ней напоминает, но самой ее при этом нет. Он радостно узнал ее древний проигрыватель, набор виниловых дисков, сумку со старыми фотографиями на шкафу. Кажется, у нее полно было сумок, не разобранных с прошлого переезда. У нее вечно ни до чего не доходили руки, а чем она, казалось бы, занималась? Но зла не было, никакого зла, одна грусть. И в окне у нее стояло то вечное время, которое он любил больше всего, — четыре часа пополудни, спальный район, вернувшиеся из школы дети скрипят качелями во дворе, покрикивают, гоняют мяч. И ветер из форточки холодит разгоряченное тело. Он больше всего любил оставаться у нее днем, вокруг шла жизнь, никто ничего не знал. Близость казалась острей от соседства этих криков и скрипов за окнами. Старуха выходила поливать грядку левкоев — интересно, выйдет ли старуха? Или у нее теперь другой дом? Может, ей всю жизнь хотелось играть на фортепьяно или вальсировать с полковниками, а вовсе не поливать левкои?
Третья комната — да, конечно, об этом он догадывался. Эта была дачная, с рассохшейся, музыкально поскрипывающей мебелью. Деревянный дом его детства давно сломали, а тот, который выстроили, он не любил. Но тут все было как надо — клеенка с изображением чайных чашек, блюдец, розеточек, тахта с красным в полоску покрывалом, шкаф со старыми журналами, лестница на чердак с множеством таинственных предметов и осиными гнездами, лепящимися к крыше… Теперь мы все пересмотрим, все переберем, перечитаем журналы, времени будет много.
Четвертой комнатой оказалась детская первого сына, старшего, любимого (врут, что младших любят сильней), — он вырос теперь и стал неузнаваем, с ним не о чем было говорить, Степановым он явно тяготился, как тяготились им в последнее время все — неуместным, неудачливым человеком, что-то обещавшим, ничего не сделавшим. Да и что можно сделать? Чего мы ждем от людей? Чтобы они мир перевернули? Но сыну он обещал что-то особенное, персональное, и хотя в этой детской он был особенно счастлив, читая сыну вслух или собирая с ним сборные модели, Степанов почувствовал именно тут страстную тоску, мучительное желание немедленно что-то сделать, что-то, чего ждали все. Но что именно сделать — он опять не догадывался и вернулся в первую комнату, больше всего боясь, что проводник сбежал и ответа искать не у кого. Но он не сбежал — честно сидел на диване, доброжелательно улыбаясь.
Читать дальше