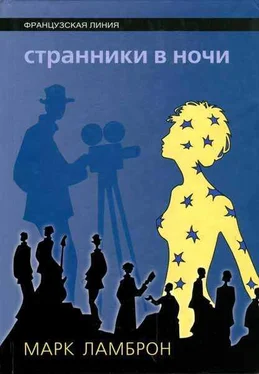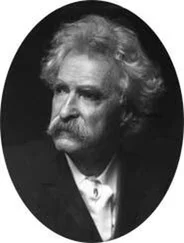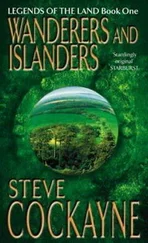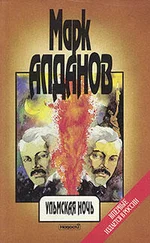Несколькими днями позже я упомянула при ней имя того французского журналиста. В ее глазах появилось что-то похожее на светлую печаль.
— Жак… Жака я любила, — сказала она.
Никогда раньше Тина не произносила этого слова в разговоре со мной. И ни с кем другим тоже. Мне хорошо известны гадкие слухи о моей сестре. Тина всегда молчит. Она ничем не интересуется. С ней страшно. Она слишком любит красивых парней. Она большой ребенок. Никогда не знаешь, чего от нее ждать. Она сама себя боится. Непонятно, откуда она такая взялась. Она упорно ищет что-то такое, чего нет на свете. Она всегда одна. На нее смотрят как на бездушную вещь, но она не бездушная. Никто не любит Тину, и сама она никого не любит.
Но она носила с собой эту фотографию.
Когда я позвонила Жаку в Париж, у меня было тяжело на сердце — я видела, что сестра скатывается все ниже и ниже. И я ухватилась за эту безумную мысль — вернуть ей французского журналиста. Я не знала, как он живет, что делает после отъезда из Италии. Но его возвращение было одной из последних карт, которыми я могла сыграть за Тину. И вдобавок это смягчило бы угрызения совести, терзавшие меня все последние годы после моего позорного поведения в Риме. Подумать только — я разъезжала по городу с частным детективом, нанятым моей матерью…
Жак прибыл в Нью-Йорк через неделю после нашего разговора. Когда он появился у меня на пороге, я сделала все, чтобы он не заметил моего раскаяния. Казалось, он удивился, увидев меня, даже сказал что-то насчет «преображения». Что он мог понять? Однако я сразу почувствовала, что его страсть к Тине не угасла. Прошло шесть лет, но вот он здесь, в моей квартире, увешанной плакатами, — тридцатипятилетний мужчина, не расставшийся со своей давней мечтой. Сейчас я увидела в нем то, чего не сумела разглядеть в 1960 году. Мне показалось, что он созрел, определился. Лицо стало другим, голос звучал иначе. Дело в том, что за эти годы изменилась я сама. В 1960 году я смотрела на людей как на что-то раз и навсегда сложившееся. В 1966 году мне казалось, что они в постоянном движении. Французский журналист был не лишен обаяния. Кто видел его на фотографиях, знает, что он был чем-то похож на летчика, волевого, но не бесчувственного. Моя сестра когда-то любила этого человека. И, возможно, продолжала по-своему любить его и сейчас. Я знала, что вскоре уеду из Нью-Йорка. Мои отношения с Дуайтом Тейлором были на исходе. Он заканчивал курс антропологии: возможно, я была для него основным подопытным экземпляром. В то время многие пары, возникшие в ходе идейных сражений 1963–1964 годов, распались, не выдержав испытания реальностью, желанием, ночной стороной жизни. Стали широко применяться противозачаточные таблетки. Обстановка в стране становилась все драматичнее. В октябре в Окленде была основана организация «Черные пантеры», а в Вашингтоне — движение феминисток. Несколькими неделями позже Тимоти Лири и Аллен Гинзберг устроили первый митинг-концерт в Сан-Франциско, в парке «Золотые ворота». Во Вьетнаме было уже 385 тысяч американских солдат. Пока моя сестра бродила в подземных покоях владыки Уорхола, над Нью-Йорком задул свежий ветер. И я вдохнула его полной грудью.
Я пишу об этом для того, чтобы поточнее восстановить ход событий. Что волновало меня в январе 1967 года? Трагическое положение Тины, разрыв с Дуайтом Тейлором, напряженная обстановка в «Нью-Йорк таймc» в связи с вьетнамской войной, отказ от борьбы некоторых моих друзей-активистов, пустившихся в волшебные путешествия с ЛСД. Все накалилось до предела. Мне было двадцать восемь. Зачастую именно в этом возрасте в душе человека в последний раз вспыхивает жажда насилия. Сегодня для меня очевидно, какова была цель моей жизни — силой разума победить нескончаемую ложь, к которой свелось существование моей матери. Наверно, я и писать начала главным образом для того, чтобы обуздать в себе ее безумие. Но в определенный момент мне вдруг захотелось дать ему волю, чтобы оно пронизало меня, взорвалось во мне, я захотела быть дочерью любви и войны. А может быть, я и не хотела этого — просто так получилось.
В январе 1967 года я попросила отправить меня специальным корреспондентом во Вьетнам. До сих пор удивляюсь тому, с какой готовностью редакция откликнулась на мою просьбу. «Думаю, у них были минимум три мотива для положительного ответа, — сказал мне однажды старый реакционер Норман Подгорец. — Во-первых, возможность хоть ненадолго сплавить вас из Нью-Йорка. Во-вторых, вы женщина, а им хотелось послать на фронтовую полосу маркитантку со своей собственной — это крайне важно! — со своей собственной точкой зрения. В-третьих, посылая вас, они уязвляли „новых левых“ в чувствительное место: это доставляло им садистскую радость. Но если говорят, что есть три мотива, это всегда означает, что имеется и четвертый, не менее важный, чем остальные: вы держались как аристократка, а перед этим люди из „Нью-Йорк таймс“ никогда не могли устоять».
Читать дальше