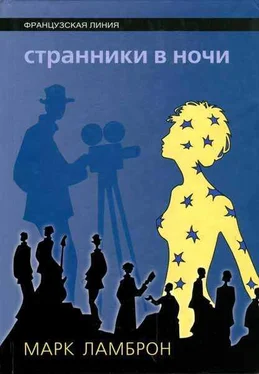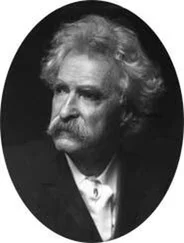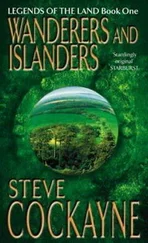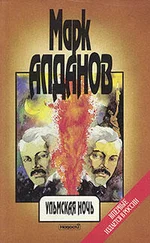Брагалья вернулся на свой пост. На площадке снова наступила тишина. Девушка в белом платье лежала под решетчатым столом, черный бык — на решетке, объективы камер были нацелены на них. Один из реквизиторов, стоявший в отдалении, держал конец шнура, намотав его на палец. Включили камеры. По сигналу Брагальи реквизитор дернул за шнурок. Со стола потоком хлынула темная жидкость, обрызгивая тунику, пропитывая волокна ткани: словно раскрылся огромный пурпурный цветок наперстянки. На животе у Тины расплылось темное пятно, но она лежала недвижно под этим кровавым дождем, под струями, заливавшими ей ноги. Ее кожу исчертили пурпурные полоски.
Все взгляды были прикованы к этому белому одеянию, на которое выливались потоки крови, точно из перерезанной сонной артерии. Туника утратила свою незапятнанную белизну, окрасилась кровью, но лицо девушки было спокойным и радостным: она принимала в себя кровь Митры Благодатного, кровь, омывающую мир от скверны. Где мы были? Из какой бездны веков текла кровь этого бога, который в то же время и жертвенное животное, бык, чья гибель означает искупление и спасение, — Митра всевидящий и всеслышащий, избавитель от скверны, брат всех богов, приносящих себя в жертву ради людей: Кингу Месопотамского и идола хурритов Митанни, Диониса Освободителя и Христа Иерусалимского; Митра-Шамаш персов, который живым солнцем сияет в людских душах?
— Стоп! — крикнул Брагалья.
Я постучал в дверь гримерной. Никто не отозвался. Опять постучал.
— Войдите, — произнес женский голос по-итальянски.
Тина Уайт причесывалась, сидя за гримировальным столом. Черный парик лежал среди косметических карандашей; забрызганная кровью, но уже высохшая туника висела на спинке стула. Тина была одета в красный пуловер и узкие, облегающие белые брюки.
Она взглянула на меня без малейшего удивления. Как будто ждала меня. Потом, приглаживая щеткой волосы, спросила:
— Я видела вас на студии. Зачем вы приходили?
Тина говорила по-итальянски. Она поправляла перед зеркалом выбившуюся прядь.
— Я пришел к вам.
Она застыла на месте, искоса глянула на меня.
— Это вы пошли за мной позавчера у князя Бьондани, верно?
Впервые я слышал ее голос. Ровный, мягкий, словно бы приглушенный.
— Я не пошел за вами. Это вы повлекли меня за собой.
Тина положила щетку на стол. Без грима красота ее лица казалась почти жестокой.
— Если так, — сказал она, глядя мне в глаза, — если вы пришли ко мне, то я должна уйти с вами. Вы на машине?
— Она стоит у студии.
Тина закрыла молнию на маленькой сумочке, которая лежала возле пинцета и баночек с гримом. Другой рукой она подхватила дымчатые очки.
— Вы француз, да? Вы говорите по-итальянски как француз.
— Да, — ответил я. — Я журналист, меня зовут Жак Каррер.
Она встала, сняла со спинки стула жакет.
— Ну что, Джек, пошли?
Эта ночь запомнилась мне как череда эпизодов из фильма. Все их содержание сводится к древней, банальной, чарующей игре: когда мужчина хочет завоевать женщину, которую желает. В той вкрадчивой мягкости, с какой в мою жизнь вошла Тина, было что-то светлое. Мне дорого воспоминание об этих минутах.
Эпизод первый: дорога, по которой мы возвращаемся в центр Рима, крутые склоны Палатинского холма, озаренные пылающим закатом. Тина сидит рядом, не раскрывая рта, и это молчание, предвестие многих молчаливых часов в нашей с ней жизни, теряется в гомоне весны — далеком треске «ламбретты», пронзительном стрекотании цикад под кронами пиний.
Эпизод второй: терраса кафе на пьяцца дель Пополо. Я пригласил Тину выпить виски. Ускользающий силуэт из садов Бьондани, фотомодель из альбома Вальтера, статистка из «Чинечитта» — все эти разрозненные ипостаси Тины сливаются воедино, когда я на нее смотрю. Мы перешли на английский. Она расспрашивает о моей работе, но чувствуется, что на самом деле ей это неинтересно. По ее словам, она больше не хочет сниматься в дурацких фильмах. Темнеет. Я не могу оторвать глаз от ее лица.
Эпизод третий: мы ужинаем в ресторане на виа Маргутта. Над нами вьется виноград с зубчатыми листьями, на столиках горят свечи. В какой-то момент музыканты принимаются наигрывать на мандолинах неаполитанские мелодии. Как на открытке: до смешного, но все овеяно очарованием весенней римской ночи. В полутьме я различаю лицо Тины. Мы пьем вино «Фраскати». Я беру ее за руку, и она не отнимает руки. Между нами пробегает искра, точно мы без слов говорим друг другу: я тебе нравлюсь, ты мне нравишься, мы оба подвели черту под прошлым, я желаю тебя, и ты это знаешь. Я говорю ей по-итальянски: «Nessuna a Roma е' piu' bella di te» [7] В Риме ты самая красивая (ит.).
. Она загадочно улыбается.
Читать дальше