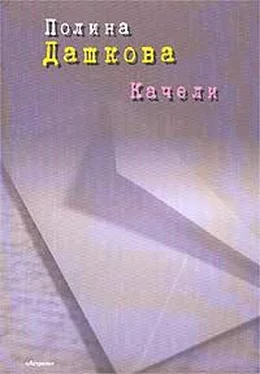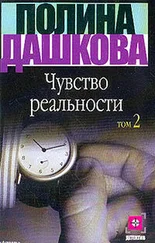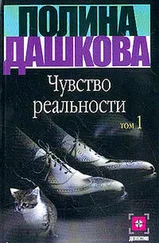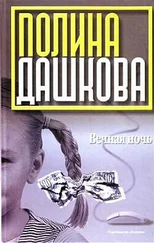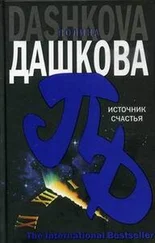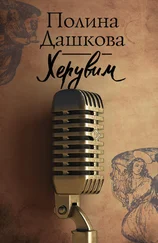Всю жизнь, сколько себя помню, я что-нибудь сочиняла. У меня врожденная патология органов чувств или обмена веществ, при которой все увиденное, услышанное и даже унюханное в окружающем мире должно быть непременно выражено в литературной форме. Наиболее точным в этом смысле мне кажется замечание Бердяева: «Если я перестану писать, у меня полопаются кровеносные сосуды».
Меня так увлекает сам процесс, что почти не остается сил позаботиться о судьбе написанного. В советское время мои стихи, эссе, статьи появлялись в печати лишь по инициативе редакций. Самостоятельно, без приглашения, снять телефонную трубку, позвонить, а тем более доехать до какой-нибудь редакции, выложить рукопись на стол перед литературным чиновником, потом выслушивать его державное мнение – от одной только мысли об этом у меня слипались глаза, скулы сводила зевота, во рту возникал вкус рыбьего жира. В итоге я шла куда-нибудь совсем в другое место, в кино, например, или просто погулять, или вообще оставалась дома, садилась за письменный стол и сочиняла что-нибудь.
В юности я гордилась и кокетничала этой своей снобской ленью. Коллеги суетились, заводили нужные знакомства, пробивали публикации, всем их показывали, аккуратно хранили. И правильно делали. Но это я поняла значительно позже. Хрестоматийные строки Пастернака о том, что «не надо заводить архивы, над рукописями трястись», перестали казаться мне аксиомой.
Этим летом на даче, в старом буфете, я обнаружила свалку своих стихов. Черновики, беловики, журналы с публикациями – все это я однажды наспех запихнула в большой пластиковый мешок и отвезла на дачу.
На самом деле это предательство.
Среди бумаг было еще и мое старое эссе о Константине Батюшкове. По сути, первый мой опыт в прозе. Двенадцать почти истлевших, исчерканных страниц машинописного текста. Единственный экземпляр, не тронутый редакторской и цензурной правкой. В журнале «Сельская молодежь» эссе вышло в искаженном виде, уже не помню почему. Но отлично помню, с каким острым, болезненным чувством я когда-то открыла для себя этого поэта, как ездила в Вологду, как сидела ночью на полу в ванной в гостинице ЦК ВЛКСМ и читала единственное прижизненное собрание сочинений поэта с его пометками на полях. Книгу дали мне хранители музея Батюшкова, всего лишь на одну ночь. А в ванной я заперлась потому, что к моим соседкам пришли гости. Соседки были спортсменки-пятиборки. Гости летчики. Они пили и веселились. Я с удивлением обнаружила, что читаю письма поэта по-французски, без всяких усилий, хотя почти не владею этим языком. Я плакала по Константину Батюшкову так, словно знала его, любила, потеряла, словно он, старый и безумный, этой ночью умер у меня на руках.
Прошло двадцать лет. Остался истлевший черновик и приглаженная, вполне успешная публикация в молодежном журнале. Я поняла, что своей ленью, небрежностью, идиотским снобизмом предаю не только себя, но и Батюшкова, и Блеза Паскаля, которому посвятила одно из лучших своих стихотворений, и множество счастливых дней и ночей, наполненных живым дыханием бывших и будущих моих героев.
Я не стала запихивать рукописи назад, в мешок. Мне захотелось собрать книгу, не только из старых моих стихов и эссе, но включить туда то, что было написано совсем недавно. Накопилось много всего: очерки, рассказы, эссе.
Роман я обычно пишу не больше года. Эту тоненькую книжку писала двадцать лет. То есть она писалась сама собой. Она похожа на качели, на быстрые легкие перелеты из прошлого в настоящее и обратно. Я не знаю, что получилось. Пусть судит читатель.
Автор
Горожанин и друг горожан
Время и судьба Константина Батюшкова
Что ж, поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.
О. Э. Мандельштам. «Батюшков»
В Вологде шел снег и путал краски. Было начало июля. Под лиловым небом, под белым колючим ветром недоуменно ежилась мокрая зелень бульвара. В черной глянцевой мостовой плавилось отражение двухсотлетнего красно-белого дома. Силуэт в окне второго этажа вполне мог принадлежать поэту, который когда-то здесь жил и умер. Сейчас здесь ПТУ, и только две комнаты отданы под музей поэта.
Двадцать два года бродил он тенью в покоях отставного капитана флота Григория Абрамовича Гревенца, своего племянника и опекуна. Бродил и бредил, тайком отламывал стрелки часов, из свечного воска лепил фигурки Тассо, Байрона, Иисуса Христа, рисовал и раздавал многочисленным капитанским детям сумрачные акварели, сердился, если картинка оказывалась не у того ребенка, для которого была нарисована. Говорил он мало, и в основном с самим собой. Все шептал строку из своего стихотворения: «И Кесарь мой – святой косарь». Умолял «не влачить в пыли Карамзина и весь русский язык».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу