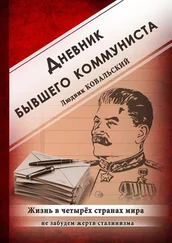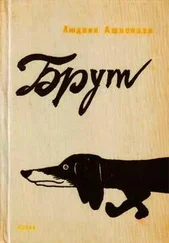Она не знала его имени, да тогда это и не имело значения. Она увидела его в лесу, он спал, озарённый мягким предвечерним светом.
Третье военное лето было на исходе.
Ей показалось, что на щеке у него блестит слеза, и это её растрогало. Она смотрела, как он спит, как на его лице густеют тени, а со щеки исчезает не то слеза, не то роса. Сначала она хотела положить ему ромашку на потрепанную шляпу и уйти. Но не ушла, её удержало какое-то терпкое, неведомое ранее томление. Она пригладила его волосы, и тогда этот большой некрасивый человек проснулся, взглянул на нее зелёным глазом и грустно спросил:
— Что ты здесь делаешь, малышка?
И тут она вдруг вспомнила, как вчера у тёмного забора целовались двое и как она им завидовала. И снова её охватило терпкое томление. Она села.
У этой истории начало далеко не так важно, как конец. Может, не следовало рвать ромашку, такую белую в траве, — пожалуй, от этого вся беда, а может, от чего другого. Может, этой Руженке Подольской вообще не следовало родиться. А может быть, и нужно всё это было для чего-то, но для чего?
— Ну, что с тобой, Белоснежка? — спросил незнакомец мягко.
А потом они любили друг друга, как заповедал господь, в этом прелестном уголке среди лопухов, в тёплой ночи. Руженка улыбалась в темноте совсем новой улыбкой, ямочка на щеке у неё углубилась, и каждая жилочка трепетала.
Так и повелось. Незнакомец приходил и уходил, в шляпе или без шляпы, мрачный или просто без улыбки, но Руженке как раз в нём и нравилась эта мрачность. Влюбилась она не задумываясь, по-женски, вся отдавшись любви, но не нашла названия для своей любви. Любовь она называла Это, а того, кто Это вызвал, — Он.
На свиданья она летела, как пчела-работница с ношею меда, и только одно её занимало: что он думал, сказав то-то, и что хотел сказать, посмотрев на неё так-то.
Пухленькой ручкой она гладила его по небритой щеке, по лбу и глазам, стараясь прочесть его мысли, но никогда это ей не удавалось. Порой она колотила маленьким кулачком по его обнажённой груди, словно стучалась в запертый дом, — напрасно. Он засыпал, положив голову ей на колени, а она смотрела на него немножко униженным взглядом и утешала себя:
«Ну зачем расспрашивать его, беднягу, раз он ничего не может сказать мне, неразумной, глупой девчонке? Наверное, он подпольщик, а они тайно поклялись молчать. А я, дура, всё мучаю и мучаю его: как тебя зовут, да кто ты такой? Любишь ли?»
И она успокаивающе и благодарно целовала его некрасивое ухо. А ночью ей снилось, что за домом на склоне у ручья она развешивает детские пелёнки.
Иногда, лежа в его объятиях, она спрашивала:
— Хорошо ли тебе со мной, Тоник? В самом деле хорошо?
Когда он уходил, она чувствовала себя страшно одинокой, ей казалось, будто в ней застряла заноза, но ни за что на свете она не вырвала бы её. Она так и не узнала о нём ничего. Только раз-другой он поминал какое-то имя, а однажды — адрес, но жадная женская память мгновенно запечатлела его. Всё вокруг дышало ароматом тимьяна и еловой смолы. Руженка шептала: «Теперь я знаю, что такое любовь, и никогда больше не нужно мне ни о чём спрашивать».
Потом этот человек стал приходить всё реже и реже. Сначала его не было неделю, потом он пропустил две недели и, наконец, целый месяц. Всякий раз, когда он снова появлялся, он твердил:
— Ни о чём не спрашивай, моя Белоснежка. Если увидишь на нашем камне лист лопуха, значит, я приду. А если его не будет, то жди, пока не увидишь. Ничего не выведывай, Руженка, когда-нибудь всё узнаешь. Всему свое время. И дуться незачем.
Он смотрел в глаза, полные укора, и эти глаза застилало слезами безрассудства и милосердия.
Случилось, что в один из июньских дней имперскому цензору, обер-лейтенанту юридической службы Валлманну, попало в руки письмо, с первого взгляда показавшееся ему подозрительным. В это время гестапо искало человека, убившего Гейдриха и оставившего забрызганный грязью велосипед на широкой улице пражского района Либень.
Обер-лейтенант юридической службы Валлманн подчеркнул толстым красным карандашом несколько фраз подозрительного письма и передал его в надлежащую инстанцию. Присяжный психографолог гестапо на основании почерка дал заключение: умеренно пастозный, в остальном нормально эротический склад характера.
Подчеркнуты были фразы:
«…Никогда я тебя не спрашивала, откуда ты. Разве я тебя спрашивала, Тоник? Милый, я знаю, это письмо большая глупость».
Читать дальше