Честно говоря, я не слишком скучаю по родному району. Магазины готового платья вытеснили все, что я так полюбил в этом городе со дня приезда: молочные и рыбные лавки, ремесленные мастерские, ночные бары и рестораны раннего обслуживания, негритянские улицы и пыльные блошиные рынки, маленькие кинозалы на каждом углу… А теперь везде только модная одежда, модная одежда, модная одежда. Вдоль улиц гордо выстроились одинаковые во всех странах заведения: рестораны быстрого обслуживания для бедных и не очень (сегодня фастфуд и есть традиционная кухня); ритм жизни полностью подчинен рабочему графику; все бистро закрываются после полуночи; курить нигде нельзя; права детей ширятся (неподалеку от моего дома на пешеходной улочке перед школой поставили восемь светофоров). Местечковый комфорт превратил некогда царственный город в казарму. Лишившись свободы, я, в сущности, не много потерял; главное не падать духом.
Насколько я понял, во время пятого уик-энда чистого воздуха дорожное движение будет затруднено из-за манифестации, организованной на площади Республики в защиту Кевина, заложника Martyre Academy. Пресса опасается столкновений манифестантов с колоннами пенсионеров, защитников Франсуазы, и журналистов, защитников немецкого репортера… Сторонники Кевина пользуются мощной поддержкой — их колонну возглавляет сам Дезире Джонсон. По его словам, надо «спасать молодежь, ведь за ней будущее». После своего освобождения он прямо-таки стал пророком: его портретами увешан весь город. Оба сторожащих меня в машине полицейских — его горячие поклонники. Тот, что помоложе, бритый индонезиец, только что объяснял своей коллеге, дюжей чилийке, жующей жвачку:
— У меня на сердце потеплело, когда он выложил цветами «Да будет жизнь». Проявить такую силу духа перед смертью!
— А я не верю, что Дезире убил полицейского. По одной его улыбке можно понять, как он ценит жизнь… Не то что ты, гаденыш. — И она с беззлобным смешком ткнула меня локтем в бок.
Мне бы промолчать, но я вступил в разговор, словно для того, чтобы прорепетировать свое выступление на грядущем судебном заседании:
— Мое дело хотя бы заставит задуматься о правах курильщиков в этой стране.
— Вот уж не понимаю! — возразил индонезиец. — Как можно одновременно бороться за право жить и за право курить?
— Право на жизнь, — ответил я, — это и право на опасные удовольствия. Но в одном я с Джонсоном не согласен.
— Да? И в чем? — спросила чилийка с типичной для охранников фамильярностью по отношению к заключенным.
— В том, что лучше убить пятидесятилетнего, чем старика, женщину или ребенка!
Улыбка тут же сменилась гримасой:
— Ага, извращенцу всегда легче сорвать зло на слабых и невинных.
— Нет, это вопрос принципа. Для меня дети суть незаконченный человеческий продукт с примитивными реакциями; они только едят и плачут, а взрослые подчиняются им непроизвольно. Старики свыклись со смертью, ждут ее как отдыха. О женщинах и говорить нечего: они добились равноправия, так во имя чего предоставлять им привилегии? По моему мнению, в поддержке нуждается зрелый мужчина, лет сорока или пятидесяти, ведь его все презирают. Он еще любит жизнь и уже чувствует приближение смерти; его интеллектуальные силы в самом расцвете, а начальство уже хочет отправить его на пенсию; его отовсюду вытесняет молодежь. Бывшая жена смотрит на него как на источник доходов. Дети считают его отсталым. Секретарша за одну улыбку готова обвинить в сексуальных домогательствах и отсудить солидный куш. Все житейские конфликты и проблемы достигли апогея, все рушится… Он само воплощение хрупкости.
— Вы поэтому обижаете детей?
— Да не обижаю я детей. Я их игнорирую. Они меня не интересуют. Это эмбрионы, им недоступны богатства человеческого языка и человеческих отношений, недоступны радости и страдания любви. Посмотрите на больных детей, которые, к великому утешению своих родителей, умирают спокойно, ибо еще не познали жизни. Они почти не осознают смерти, она для них лишь легкий переход в другой мир. А для зрелого человека ужас перед небытием и тоска по жизни бесконечны. Поэтому, если выбор неизбежен, гуманнее убить ребенка, а еще лучше младенца, а не взрослого.
Этими словами я снова расписался в своей виновности. Неотесанные охранники сочли мое равнодушие к детям косвенным проявлением непреодолимой тяги к маленьким девочкам. Мое мировоззрение было им недоступно; своим ощущениям они доверяли больше, чем доводам рассудка.
Читать дальше
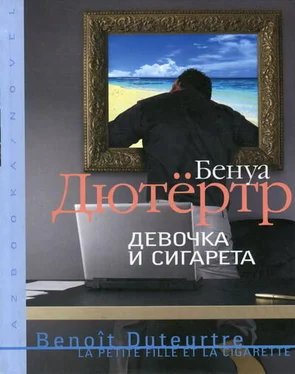
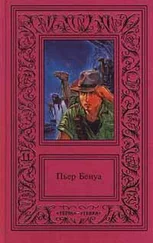

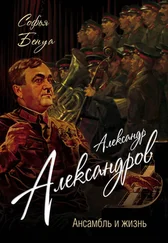




![Елена Булганова - Девочка, которая спит. Девочка, которая ждет. Девочка, которая любит [сборник litres]](/books/436759/elena-bulganova-devochka-kotoraya-spit-devochka-ko-thumb.webp)



