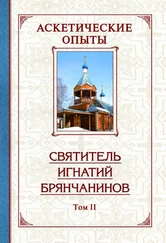А потом была осень. И так мне нравилось словно бы от тебя тайком шептать твоим (не твоим, твоей квартирной хозяйки) растениям: "А во мне тоже есть семечко. И оно прорастает! Не верите? Да-да-да! Оно же во мне озимое!". И по краю твоей улыбки видеть: ты здесь, а не целиком в своем компьютере. Ты просто его озадачил. Ты озадачил его и меня. И теперь отвечал сразу за нас обоих. И воздушные шарики, которые ты вместо цветов стал приносить, - в одном большом несколько маленьких, - как же мне было от них хорошо, Алеша! (Классно, здоровски! Спасибо тебе за все!). И то, что я вдруг поняла про папины фокусы в детстве - про шарики изо рта, про появление меня на белом листе бумаги - про чудо возникновения из ничего, из темноты, из пустоты, - и чудо это было теперь во мне, через меня, мной…
Вот. А теперь в нашей девятнадцатой лекции, как любил выражаться Веревочкин, возникает новая тема, ее пишем с абзаца.
Тема подлинника. Почему, чтобы вызвать катарсис, театр "Глобус" не должен быть подлинным, а картина ван Эйка должна?
Театр "Глобус", во-первых, восстановленный, а во-вторых, восстановленный не на том даже месте, на котором во времена Шекспира стоял (хотя и неподалеку), белый, округлый, вознесенный над ступенями за черной решеткой и, значит, для прикосновения недостижимый, - а так почему-то хотелось приложиться к нему ладонями, как припадают к святыням, к Каабе, к стене Плача, - но чего бы я у него попросила? Стать "обратно" Джульеттой? Я сидела на парапете. Сзади плескалась Темза. Солнце (знаешь, апрель - самый солнечный английский месяц) уползало за краны и строящиеся небоскребы того, другого, главного берега и акварельно расцвечивало этот. Он уже не был белым, театр "Глобус", он был весь из оттенков желтоватого, розоватого, сиреневого. Он был теплым, он весь был в рефлексах - он был рефлексирующим, вот, и потому подлинным. А подлинное, ведь оно обладает удивительным свойством, оно тебя подключает к себе - всего, целиком. И меня вдруг догнала, здесь, сейчас, вводная лекция Веревочкина к Шекспиру, прочитанная там и тогда. Про судьбу, которую Шекспир изображает как общую всем, каждый его герой еще не вычленен из всеединства сущности, каждый объединен с другим общей судьбой - именно потому, что поднимается с ним из одного и того же потока. Ромео и Джульетта были обречены гибели изначально, потому что были порождены потоком взаимной ненависти двух родов… Я упрощаю, невероятно. Этот трансцендентный поток, по Шекспиру, он не в человеческом коренится, а в трагическом устройстве всего мироздания, всего космоса, в человеческое же он только выплескивается. Алешенька, это важно. Это снова про нас! Слушай внимательно. Сейчас я могу уже это тебе сказать: мы живем в другую эпоху, мы утратили чувство потока и даже чувство слова "поток"… "Мысль изреченная есть ложь" - и все, и этого нам от него довольно! Как катастрофу людям двадцать первого века, к сожалению (к счастью?), дано пережить одно: невстречу означаемого с означающим. Или даже лучше сказать так: их двойное самоубийство (потому что плохо им друг без друга!). Они и есть современные Ромео и Джульетта, вот что я вдруг там поняла. И все это архетипическое: бабушки, дедушки, род, биологическое предназначение - оно потому и всплывает во мне сейчас, понимаешь, - в опустевшей вселенной! По крайней мере, свою жизнь я трактую именно так.
Я верю в себя, в своих близких, в своих предков, делавших все, чтобы я на этом свете была - правдами и неправдами - делавших. Один мой прадед выносил в голодные годы сахар с сахарного завода по две чайных ложечки в день для моей маленькой бабушки, чтобы она не стала дебильной, знаешь, как? Он посыпал сахаром подкладку пиджака, потом сахар струшивал, но кое-что на нем все-таки оставалось. Остаток (до двух чайных ложечек в день) он выбивал уже дома на чистую наволочку. И я тоже, Алеша, я хочу банального счастья - со здоровенькими детьми, с теплым домом, с сеттером - да, обязательно. У моего сеттера будут твои глаза и этого будет довольно!
Но я про катарсис - на берегу Темзы, к заходящему солнцу спиной. Я заплакала первый раз за эти полгода, за шесть месяцев, за сто восемьдесят семь дней без тебя. У меня в грудной клетке что-то вдруг так разболелось. Душа, Алешенька, это, оказывается, то, что болит. И это было так круто! Я больше не была привидением. Сеттер - на собственной даче - с твоими глазами, подумала я, это ведь тоже, можно сказать, трагизм - маленький такой, одомашненный, прирученный. Классный такой трагизм - раз все прочие нам уже недоступны -чтобы жизнь не была вся в шоколаде.
Читать дальше