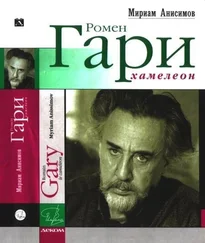Они миновали булочную. Над лавкой возвышался вырезанный из дерева розово-голубой ангел; подброшенный в воздух, он сильно напоминал ученика балетной школы в массовке Оперы. Булочник — в майке, с голыми руками и беретом на голове — курил сигарету. У него были белые волосы на теле и хитрые глаза.
— Привет, Эмбер, — сказал Ренье.
— Привет.
Булочник, сложив руки под фартуком, посасывал окурок и как знаток хорошего хлеба изучал Энн.
— Итак, похоже, вы нас скоро покидаете?
— Через несколько дней. Как говорится, такова жизнь.
— Это не жизнь, — сказал булочник.
Он не уточнил, что же это такое, но, сощурив глаза и не выпуская изо рта потухшей сигареты, посмотрел на Ренье с такой жалостливой иронией, что вышло так, будто он это сказал.
— Ну пока, — сказал Ренье.
Булочник едва кивнул им, он выглядел немного обиженным, как истинный сын Средиземноморья, который всегда чувствует себя лично задетым, когда кто-то, стремясь оправдать собственную глупость, плохо отзывается о жизни. Какое-то время он смотрел им вслед, затем бросил сигарету и демонстративно вернулся в булочную; Ренье ясно ощутил, что это не просто свидетельство того, что он возвращается к своим печам, но также, и главным образом, того, что сам Ренье решительно не едет в Корею. В деревне все знали про его отъезд и не одобряли его: были там и коммунисты, да и просто деревенские жители, которые ненавидят отъезды и у которых в руках слишком много конкретных вещей, чтобы бросать их здесь и бежать защищать идеи на другом конце света, где ничего не растет.
— Он, похоже, не согласен, — сказала Энн.
— Но у него, по крайней мере, есть право это высказать.
Улица Лафонтена заканчивалась поворотом, как бы подметая землю своими ступеньками в последнем каменном реверансе. Они вышли на церковную площадь, столь узкую из-за близко стоящих друг к другу четырех фасадов, что своей интимностью она больше напоминала интерьер; слева от паперти виднелся светильник и увядший букет перед мозаичной мемориальной доской, на которой жались друг к другу — чтобы всем хватило места — имена погибших солдат. Храм был совсем розовый, театральный, — этакая церквушка, долго жившая одной семьей с апельсиновыми рощами и мимозами; похоже, она была куда ближе Средиземноморью, чем небесам. Она так долго жила среди виноградников, что и сама стала веселым земным плодом, и Энн подумала о тех миссионерах, что проводят свою жизнь среди китайцев, из-за чего глаза у них делаются в конце концов раскосыми. Ренье обнял Энн за талию, и так — нисколечки не стесняясь — они и вошли: совершенно очевидно, что это была понимающая церковь, которой никакое из проявлений любви не было чуждо. Так они продвигались вперед по каменным плитам, среди позолоченных ангелов, святых, свечей, тонких колонн из искусственного мрамора, и от дурного вкуса все это спасал счастливый вид; они дошли до алтаря и какое-то время стояли, не шелохнувшись, и Ренье чувствовал у себя на губах ее волосы, и ее шею, и веки, и это был не самый плохой способ стоять перед алтарем. Из ризницы молча появилась пожилая женщина — седые волосы, черное платье, но в лице, среди морщин, та веселость, которой явно не страдают ханжи. Под мышкой у нее была корзина с бельем и мимозы. Она лукаво взглянула на сосредоточенную пару и, поскольку она была знакома с Ренье и знала, что тот язычник, заулыбалась и стала относиться к этому месту так, как делал это в своем воображении он сам, то есть как к месту прогулки, и ей доставило явное удовольствие прервать эту благоговейную атмосферу, на которую они не имели права.
— Ну что, месье Ренье, — прокричала она довольно громко, как бы показывая, что не считает, будто находится в церкви. — Прогуливаетесь?
А еще это было сделано для того, чтобы дать им почувствовать себя непринужденно, вызволить их из затруднительного положения и показать этим двоим, что недостаточно войти в церковь, чтобы оказаться в ней; и пока она ходила взад и вперед перед алтарем, как перед каким-нибудь углом в своем доме, складывая ветки мимозы у ног Спасителя с фамильярностью старой служанки, являющейся в какой-то мере членом семьи, она не переставая шутила с влюбленными, затем взяла несколько цветков из своей корзинки и протянула их Ренье:
— Для вашей дамы.
— Спасибо, мадам Эмбер.
— Они прекрасны, — сказала Энн. — Но вы уверены, что?..
Старуха искоса поглядывала на нее, наслаждаясь ее смущением и стеснением, довольная, что получает эту дань в виде робости.
Читать дальше