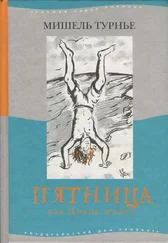Да, я и поныне не изменил страсти, пробужденной во мне знакомством с эллинской культурой, которое состоялось в моем отрочестве. Конечно, с тех пор я стал зрелым мужем, более зрелым стало к мое видение. Годы шли, и я научился смотреть с некоторого расстояния на очарованный мир мрамора и порфира, с вечера до утра озаренный светом Аполлоновой звезды. Из первого моего путешествия я сделал горький вывод, что душой и телом принадлежу любимой моей Греции и только по чудовищной ошибке судьбы родился в другой стране. Но мало-помалу я осознал то, что позднее назвал «преимуществом отдаления», и научился им пользоваться. Боль, причиняемая мне изгнанием из эллинской земли, озаряла ее светом, которого не дано было видеть ее обитателям и который многому учил меня, хотя и не утешал. Так из моей далекой Халдеи мне открылась тесная связь между пластическим искусством и многобожием. Боги, богини, герои размножились в Греции настолько, что поглотили все, не оставив сколько-нибудь заметного места скромному человеческому бытию. Для греческого художника противоречие между священным и мирским решается просто: мирское ему неведомо. Если единобожие влечет за собой страх перед изображением и ненависть к нему, многобожие, царящее в золотом веке живописи и скульптуры, обеспечивает богам власть над всеми видами искусств.
Живя в своем дворце в Ниппуре, я, конечно, продолжал почитать далекую Грецию, но я постиг границы ее великого искусства. Ибо нехорошо, несправедливо, да и ошибочно заточить искусство на Олимпе, с которого изгнан конкретный человек. Лично для меня самое будничное, но и самое потрясающее ощущение — увидеть красоту, просиявшую вдруг в силуэте скромной служанки, в лице нищего, в движении ребенка. Эту красоту, таящуюся в повседневном, греческое искусство, признающее только Зевса, Феба и Диану, замечать не хочет. Я обратился к Библии евреев, которая являет собой свод самого нетерпимого монотеизма. Там я прочел, что Бог создал человека по образу своему и подобию, следовательно, сотворив не только первый в истории мира портрет, но и первый автопортрет. Я прочел, что затем Он повелел человеку плодиться и размножаться, дабы потомство его населило землю. Следовательно, создав свой собственный портрет, Бог пожелал размножить его до бесконечности, дабы он распространился по всему миру.
Это двуединое начинание послужило примером для большинства властителей и тиранов: заботясь о том, чтобы их изображение распространялось на всем пространстве их владений, они приказывали выбивать его на монетах, которые не только многократно воспроизводятся, но и непрестанно кочуют из сундука в сундук, из кармана в карман, из рук в руки.
А потом произошло нечто непонятное — разрыв, катастрофа, и Библия, которая начиналась с Бога, творца портрета и автопортрета, вдруг стала беспощадно преследовать своим проклятьем создателей изображений. Это проклятье, нашедшее отзвук во всех странах Востока, стало причиной моих горестей, и я вопрошал себя: «Почему, почему, что же такое случилось и неужели это никогда не изменится?»
Жизни моей предстояло потечь по новому руслу, поскольку речь зашла о том, что мне пора выбрать себе жену. Эротическое и сентиментальное воспитание наследного принца осуждено оставаться незавершенным и даже убогим. Почему? Да потому что для принца все слишком доступно. Если молодому человеку, бедному или просто незнатному, приходится бороться, чтобы удовлетворить свои плотские и сердечные желания, — бороться с собой, с обществом, нередко даже с самим предметом своей любви — и в борьбе его желания крепнут и мужают, принцу довольно сделать знак рукой или мигнуть, чтобы тело, на которое упал его взгляд, оказалось в его постели, пусть даже это тело жены великого визиря. Эта доступность расслабляет, пресыщает, лишая юного властелина терпкой радости охотника или тонкого наслаждения соблазнителя.
Мой отец спросил меня однажды на свой лад, начав разговор издалека, беспечно и шутливо, хотя речь шла о предмете весьма для него важном, думал ли я о том, что в один прекрасный день приму у него из рук бразды правления и к тому времени мне следовало бы взять себе жену, достойную стать царицей Ниппура. Я был начисто лишен политического честолюбия, а мое мужское естество по причинам, изложенным выше, не докучало мне требованиями, которые могли бы лишить меня сна. Однако вопрос отца, на который я не знал, что ответить, встревожил меня и, может быть, даже подспудно подготовил к страданиям.
Читать дальше