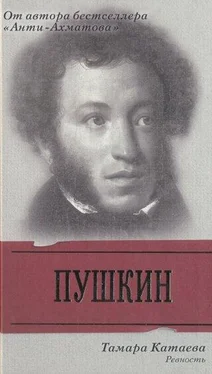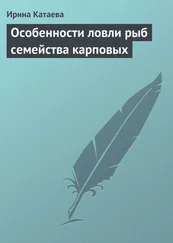Пушкину первым не обязательно БЫТЬ — назначим. Работать — все равно надо. Поездка в Оренбург, по пугачевским местам, — ну поразительно, как все правильно из воздуха ловит. И про Пугачева, и про Стеньку Разина, и про героев-комсомольцев, и на Соловках будет что показать, до такого не додуматься — он отступит в почтении перед таким новым поворотом мысли, истории…
А уж как сидеть будет — первостепенный боярин позавидует. Самым первым о правую руку посадим, ерничать, но и хмурить брови пусть научится. Дадут и перед собранием выступить, и в главнейшей газете самой главной статьей будет вступать заместо манифеста царского — его слово, пушкинское. Денег дадут больше других. Дадут орден. Дачу у Китаевой вдовицы отберут, дадут ему в приятное, тайно ностальгическое — понятное, как же, из бывших! — пользование, с шагами влиятельных предков по ночным комнатам, с робкими инопланетными взглядами за забор прохожих с их уплотненными жильями. Никто не осмелится дать ему пощечину, будь это хоть самый самородный из младого, незнакомого племени, никто не плюнет, никто не уступит дороги в сортире писательского клуба.
ГОГОЛЬ: Пушкин в Риме? Художникам — ездить в Италию, философам — в Германию, писателям — во Францию. Гоголь поехал в шляпе, в блузе — в Рим. То ли сочные, яркие картины под полуденным солнцем, то ли удлиненные, вылепленные обмазанным жиром вяленого пота масличноглазые лица хотел увидеть, наскучив белобрысыми, да коротконосыми, да щербатыми от плохого питания да драк, — а то ли просто хотел по старой памяти погреться. В Полтаве жарко, душно, по осени долго тепло, по весне теплеет рано, и так все греешься, греешься, а потом зимы короткие, веселые, печи топятся хорошо, летом много подушек в сад выносят, земля сухая, небо белесое. В Петербурге все не так. Пушкин называл царскосельские парки садами лицея. Разве это сады? В садах вишни растут, а здесь — страшные, огромные, для царей высаженные лиственницы и липы. Игры с мальчиками под ними. Разве с матушкой это, с няней? Пушкин был здесь у себя, а Гоголю надо было отсюда уехать. Нельзя поверить, что Италия — это была реальность, и даже Пушкин завидовал ему. В Италию Пушкин и не прежде бы всего захотел. Длинноносые красавицы ему прискучили бы быстро, тонкоголосые юноши — тем более. Вязкость общественной жизни — Пушкин был классиком, ему важна была имперская иерархичность, статика, торжественность — чтоб он позволил себе над этим воспарить, ее бесформенность, фрагментарность, разделенность Италии — Пушкин бы заскучал от этого хаоса, мешанины. Пушкину здесь все было бы излишне. Что может быть завлекательнее холмов Тосканы? Какая-то нереальная живописность, дивной гармонии разнообразность, кущи и тучные поля, поместья и замки, колокольни. Горы и реки. Глаз не оторвать.
И представить себе пригорок за Тригорским, промерзший черноватый перелесок, снегом покрытые равнины и выметенный злобным ночным ветром последний ноябрьский неприкрытый косогор… Речка тоже снегом еще не вся укрылась, в голых местах лед голубеет, блестит. Просвечивает… Сознание расширяется, сносит голову, лоб растворяется в воздухе, вся картина псковских пейзажей, мирозданья, людских устройств оказывается внутри твоего черепа, без границ, без органов чувств для их восприятия — глиной в твоих руках…
Вы еще скажите: Венеция. Пушкин и Венеция — это перебор, это слишком пестро.
Гоголю не сиделось. Он не мог смотреть на мир — российский, царский, так властно, ему бы надо бежать и писать о том, чего никогда будто бы не бывает в этой стране, России. О сумасшедших, переписывающихся с испанским королем, о Коробочках и Собакевичах, об инкогнито из Петербурга, о Вие — о всем том, что есть, он это видел — но этому нельзя пожать руку и представить друзьям. Он должен быть там, где он с ними один. Со своим носом. В Италии многие носы похожи на его собственный, это успокаивает.
Разве Пушкин бы стал писать о своем носе? Он только сам, весь, цельный, как сперматозоид, внедряется в этот мир — и только от него образуется жизнь. Он не знает другой роли.
МАСКА: Свеча горит огнем. Живым, жертвенным. Хлопок и сало, стеарин и воск исчезают у тебя на глазах, проживая три классических возраста. Не где-то там энергию для освещения твоих трудов или забав вырабатывают далекие генераторы, а ты сам своею волею возжигаешь огонь — и тушишь его, или — присутствуешь при последнем акте потрескивания, выпуска усиленного, удвоенного, напоминающего о грубой физической природе заканчивающегося процесса — выпуска дыма, — до этого момента лучше не доводить, не экономить, черны потолки и так без предкромешной копоти. Пушкин сидит и пишет, свеча горит. Свечи закуплены загодя, лежат в пачках, обернутые промасленной бумагой, в кладовке. Свечи разных сортов, разного качества. Придумают электрические лампочки — свечи будут возжигать для красоты, для романтики, как кататься на впряженных в двуколки каретах по Праге. Как нанимать гондолы на венецианских каналах, как в белых одеждах и кожаных сандалиях бродить по улочкам Иерусалима, как заказывать свои портреты на фоне лестниц и канделябров. Один раз напился этой мертвой воды — эпоха отойдет от тебя, некрофила не посчитает за бессмертного любовника.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу