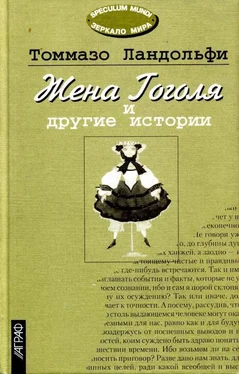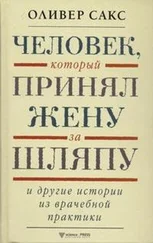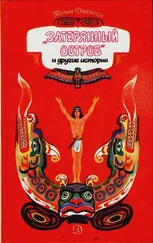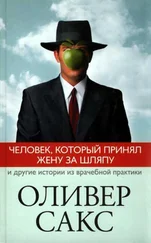На всем покоилась пыль времени, какая-то особенная, мертвенная муть; казалось, даже воздух затвердел сгустившимися жестами. Как только я почувствовал, что лишь ее рука могла расположить подобным образом предметы, в моем сознании мелькнула прежняя догадка, впервые переросшая в полнейшую уверенность: она мертва. И точно золотистый траурный поток, по комнате обильно разливался чуть потускневший желтый цвет.
В углу, воздвигнутый на высоту резного лакированного столика, застеленного пурпурным бархатом, стоял большой портрет в коричневатой раме, окутанной непроницаемой, как ночь, вуалью: изображенного на нем лица не разглядеть. С чего я взял, что это именно портрет? Не знаю, но я уже не сомневался, что это был ее портрет. Перед портретом и по бокам — четыре ало-голубые вазы с букетами осенних лютиков, которые я видел в саду и в подземелье (быть может, ее любимые цветы, из тех немногих, что произрастали среди суровых гор?). Рядом уже знакомый мне муар, топазовое ожерелье, перчатка с пожелтевшим кружевом, зеленоватая, заметно выцветшая шелковая лента, а также преломленный хлеб и кубок с розовым питьем, казавшимся разбавленным вином. Все это скорбное убранство одновременно вдохновляло и сжимало сердце.
Когда я крадучись проник в покой, старик уже успел возжечь в камине ветки кипариса иль можжевельника; огонь бесшумно полыхал, распространяя легкий аромат смолы. Поправив напоследок жертвенный огонь, хозяин отступил в глубь комнаты и, приложив ладонь ко лбу, сосредоточился. Затем он что-то взял со столика (мгновение спустя я уловил тончайший запах ладана) и окропил рубиновое пламя, произнеся негромко имя — ее —, повергшее меня в смятение и трепет: Лючия.
Семь раз присыпал он огонь и возгласил то имя, и раз от разу голос старика звучал все громче и уверенней. Он опустился в кресло, задул стоявший на соседнем столике светильник и замер в полной тишине. Огненные блики высвечивали его согбенную фигуру: старик сидел, зажав руками голову, непроницаемый и отрешенный.
Прошло, наверное, немало времени. Огонь изнемогал и наконец совсем зачах. Во тьме поблескивали красновато угли. Старик очнулся, бросил на угли немного ладана и неожиданно заговорил. Дрожащий голос, поначалу приглушенный, окреп и твердо, без надрыва, звучал в почти что непроглядных сумерках. Это была молитва, длинная молитва неведомому богу (а может, ведомому слишком хорошо?). По обстоятельствам, о коих сейчас не след распространяться, я приведу ее отчасти. Казалось, что устами старика вещал какой-то чужеродный голос. Слова он подбирал с большим трудом, как будто некто их нашептывал, а он не сразу понимал, как будто, выражаясь более доступно (хотя в ту ночь все представлялось недоступным разуму), старик пытался слиться воедино с тем некто, с памятью его и существом иль сутью. Не знаю, как объяснить мои сумбурные и путанные впечатленья, но знаю, что воспринял его слова и даже разобрал их, как всякие другие. Как ее слова.
Меж тем на горы надвигалась буря. Поднялся резкий ветер, послышались далекие раскаты грома, сверкнула ослепительная молния. Все это едва угадывалось за плотно смеженными ставнями. Невдолге буря обещала разыграться во всем своем неистовстве, о чем упомяну по ходу моего дальнейшего повествования. Но только краток век осенних бурь, не долго буйствовать мятущейся стихии.
— Дух Света, — изрекал старик, — Дух Мудрости, чье веяние все сущее одаривает формой и лишает формы, о ты, пред кем вся жизнь земных творений — лишь мимолетный призрак, ты, воспаривший к небесам и вновь грядущий на крылах ветров, ты, оживляющий бескрайние пространства дыханьем цельбоносным, ты, вдохновляющий все без изъятия, что от тебя исходит и к тебе приходит, о вечное движение в извечной неподвижности, благословенно имя твое!
Тебя славлю и величаю в переходчивом царстве сотворенного света, теней, оттенков, образов и беспрестанно уповаю на твою нетленную и нескончаемую ясность. Ниспошли мне луч твоего разума, тепло твоей любви, и всякое непостоянство тотчас обратится постоянством, тень пребудет телом, эфирный дух — душою, греза — мыслею. И боле мы не отдадимся на волю прихотливых бурь, но утренних коней крылатых умерим ход и сдержим бег вечерних ветров и воспарим тебе навстречу.
(Тем временем безудержная буря грозила унести нас прочь; порывы бешеного ветра обрушивались на оконные глазницы дома.)
— О Дух всех духов, о вечная душа всех душ, нетленное дыханье жизни, о зиждительный вздох, уста, вдыхающие жизнь во всякое созданье приливом и отливом вековечного глагола, который есть океан движения и истины! Аминь.
Читать дальше