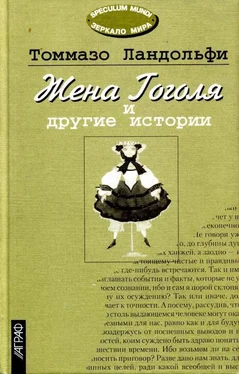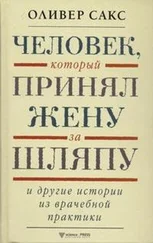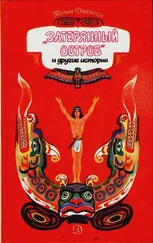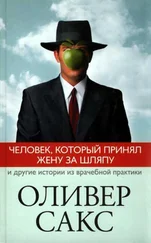Хозяин был действительно на кухне и раздувал огонь в печи. Собаки восседали рядом и с задранными мордами принюхивались к ароматам простой похлебки, варившейся в кастрюльке. Старик меня окинул безразличным взглядом и продолжал стряпню. И снова я не знал, как поступить. Хотел было помочь — в ответ отказ. С видимой натугой старик спросил:
— Проголодались? — И добавил: — Скоро.
Призвав на помощь всю свою любезность, я протянул ему двух куропаток. Он искоса взглянул на них, вначале с жадностью, затем с брезгливостью, и молвил холодно:
— А приготовить сможете?
Беседа, столь удачно завязавшись, на том, однако, и оборвалась. В итоге я превратился в заправскую кухарку и ощипал свою добычу, но более на этом поприще не преуспел — ведь из продуктов, для жарева пригодных, на кухне отыскалось лишь полбутыли масла, к тому ж прогорклого.
Во всей поварне я не нашел ни стула. Но ведь хозяин мог опрокинуть стул в одной из смежных комнат?
Подробный пересказ моих попыток сойтись накоротке со стариком, последним неизменно отклоняемых, пожалуй, затянулся бы до бесконечности. Достаточно сказать, что так или иначе я навязал ему свое присутствие. При этом я не мог пожаловаться на недостаток прозрачнейших намеков, а иногда и недвусмысленных призывов покинуть дом. Однако я оставлял их без внимания. Так, продолжая испытывать терпенье старика, я худо-бедно прожил у него еще дня три. Дале я изложу итоги моих настойчивых расспросов, ибо, как ни увиливал хозяин, моя настырность взяла свое, и кое-что я все же сведал.
Скажу попутно, что погода опять испортилась. Упрямый дождь или губительная сырость (которую недаром окрестили в тех местах «заразой») почти не позволяли выходить из дома. Непродолжительные вылазки в окрестности я совершал лишь изредка, чтобы не быть застигнутым шальным дозором. Все это вынуждало старика, учитывая его нимало не скрываемое желание доглядывать за мною всякий миг, волей-неволей составлять мне частую компанию. В один из этих дней нас даже подарило снегом, подбитой невесомым пухом изморозью, сплошь убелившей горы на несколько часов. Внутри жилища, сквозь расшатанные ставни, мятежный ветер завывал на все лады, взрываясь иногда отчаянными человеческими вскриками: как в бешеном припадке, они метались от стены к стене, пронизывая дом до самых недр, и вылетали вон через каминную трубу с раскатистым и беспрерывным громыханьем. Разбитым мною стеклам мы подыскали хилую замену из досок: прерывая световой поток, они, однако, не мешали просачиванью в дом тумана. Лениво затекая внутрь, он повисал размытой взвесью меж отсырелых стен и пробирал нас до костей жестоким холодом. Чтоб не окоченеть, мы днями напролет поддерживали в камине большой огонь, дрова и сучья для которого я собирал собственноручно (а также норовил участвовать и в прочих хлопотах по дому).
Неохотно старик дозволил пользоваться своими книгами и предоставил мне хоть мало-мальскую свободу передвижения по дому, по крайней мере между залою и спальней. Я не терял надежды углубить этот маршрут, распространив его на то крыло, где приключился памятный мне случай. Подчас мне было даже совестно навязывать свое обременительное общество тому, кто откровенно в нем не нуждался. Вдобавок я уже никак не мог пополнить стариковские припасы, меж тем как в доме их и так недоставало (вся наша трапеза обыкновенно состояла из капусты, нескольких картофелин, кусочков сыра местной выделки и зачерствелых корок хлеба). В конечном счете я находился в полной власти старика, ведь самый дом был словно создан для всяких козней и ловушек, не говоря уже о верных псах и о немыслимой способности хозяина следить за всем и вся и появляться незаметно. Из этого я простодушно выводил, что и мое присутствие ни в коей мере не являлось для него таким уж нежелательным. Хочу предупредить, что нижеследующие скупые сведения о нем получены не прямо от первоисточника, но на основе личных умозаключений, которые я сделал из его речей, туманных и немногословных, а заодно весьма двусмысленных, обрывочных ответов. Итак, вот что он мне поведал.
Как я и полагал, хозяин мой был родом из местечка С, принадлежал к одной из знатнейших семей провинции и, надо думать, являлся ее последним отпрыском. О ранге этой родовитости я мог судить лишь по одной-единственной примете — короне, что венчала фамильный герб, запечатленный на домашней утвари и мебели. Она пускала девять тоненьких сухих ростков, из коих крайние давали цвет, и относилась (если верить моим умеренным познаниям в геральдике) к редчайшей графской ветви германского происхождения. На вопрос о родовой фамилии:
Читать дальше