Однажды я видел, как он выстаивал длиннющую очередь в магазине бывш. Елисеева, чей пышно-безвкусный интерьер напоминает подводное царство из оперы «Садко». Все чудеса далекой Индии, алмазы каменных пещер, жемчужины полуденного моря не могли помочь чрезвычайно медленному продвижению Индийского гостя к телячьей колбасе. Но когда увидевшая певца продавщица захотела обслужить его вне очереди, смущение и растерянность Лемешева были так велики и неподдельны, что всем нам стало неловко.
Он был дерзким Альмавивой, бесстрашным Фра-Дьяволо, чарующим и беспутным герцогом Мантуанским, смелым Левко, мудрым Берендеем на сцене, он был прославленным народным артистом СССР, а в жизни оставался простым народным человеком, не признающим за собой права на какие-либо преимущества. Недаром его любил Андрей Платонов, но любил бы еще больше, если б знал, что Лемешев выстаивал все очереди. Для Платонова это было проверкой человека. Умеющих получать блага в обход он презирал не меньше, чем тех, кто, по его выражению, «уткнулся мордой в кормушку власти».
Известный дирижер и близкий друг Лемешева Борис Хайкин вспоминал: он только что переехал из Ленинграда в Москву, не успел толком обосноваться, даже семью не перевез и жил на бивуаке; Лемешев после репетиций всякий раз старался затащить его к себе и накормить домашним обедом.
Жил Лемешев на улице Горького, и в тот раз друзья, отпустив машину, решили пройтись пешком, благо был один из тех голубых, сияющих и мягких дней, что изредка врезаются в январскую лютость с жгучими морозами, мглистыми снегопадами, вьюгами и буранами. Они приближались к площади у Моссовета, когда темный бронзовый Юрий Долгорукий, заваливающийся набок вместе с могучим конем, вдруг начал бледнеть, таять, растворяться в летучей белесой мути.
Над площадью вскипела метель и, завывая, рванулась в оба конца улицы Горького. Лемешев поднял воротник шубы, плотнее надвинул на лоб меховую шапку, похожую на старинный грешневик, защитив лицо от секущего сухого снега.
Посмерклось, и в мглистом воздухе заплясали белые призраки. Верно, метель сбила с толку уличную толпу: на Лемешева наскакивали, чуть не сшибали с ног, толкали в грудь и бока. Придерживая воротник у горла, он оглянулся на друга – и увидел, что того так же безбожно толкают, шпыняют зловеще возникающие из сумеречной круговерти, подкрашенной зеленой или пунцовой неоновой течью, проломные, беспощадные пешеходы. И Лемешеву стало неловко за своих земляков перед человеком из вежливого Ленинграда. Он приблизил замерзшие губы к уху друга:
– Бог весть что творится!.. Как все больно толкаются! Никогда такого не было.
– Ты это серьезно говоришь? – У Хайкина хватило сил растянуть губы в улыбке.
– Разумеется!..
– Дите малое!.. На ваших улицах – спасибо, коли не затопчут. Это тебе дают дорогу, перед тобой расступаются. А сейчас ни черта не видно, и ты еще зарылся носом в воротник. Беднягам невдомек, кого они толкают... Понял наконец, как хорошо быть Лемешевым?
Поразительно, что великий певец так никогда этого не понял. Незнакомым людям он неизменно представлялся: «Лемешев из Большого театра...»
Скромность украшает девицу – большой певец может и не обладать этим привлекательным качеством, и все-таки мы предпочтем слушать его, а не скромнягу, примерного гражданина, видного общественника и редкого семьянина, лишенного одной лишь малости – голоса. Но как хорошо и радостно, когда человеческое и творческое совпадают! Этим судьба наградила Лемешева, при всей своей многогранности он был на редкость цельной натурой. А уж если причинял кому вред, то лишь самому себе – в трудную минуту. Ничего не потеряв в своем народном, почвенном начале, он стал человеком большой и широкой культуры, и не только музыкальной, он любил живопись и литературу, поэзия была его неизменной спутницей». Он часто повторял стихи Ронсара:
Ведь старый человек на много лет моложе,
Когда не хочет быть у старости в плену.
Жизнь все-таки усмиряла свой бег. Теперь он подолгу жил в небольшом доме отдыха Большого театра в Серебряном Бору. Его окружали старые друзья, коллеги, добрые знакомые.
В сумерках они слушали соловьев. Было странно, что соловьи еще поют в Серебряном Бору. Березовый, сосновый, сиреневый пригород стал частью Москвы. Городское пробивалось в его травяную, древесную свежесть тяжким смрадом выхлопных газов дизельных автобусов и тяжелых грузовиков; безостановочный поток гудящих, ревущих машин растерзал благостную надречную тишину; темь поздних вечеров проблескивали жесткие вспышки электрических троллейбусных зарниц, квадратными лунами загорались окна домов-башен. Но те, кто привык ездить в этот уютный, хотя и лишенный современных преимуществ дом отдыха, изо всех сил старались не замечать вторжения цивилизации, черпая радость в том, что еще оставалось от природы: в бормоте листвы, сыром илистом речном запахе, серебре росных утр, густом цветочном настое вечеров и соловьином пении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
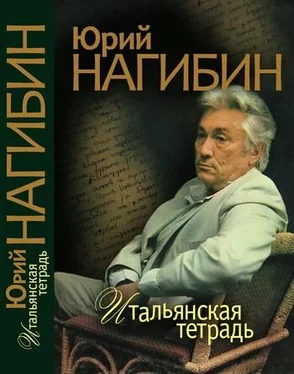

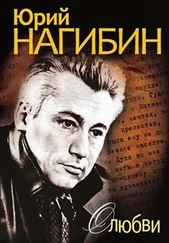






![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/books/128605/yurij-nagibin-vmesto-predisloviya-k-sborniku-vremya-thumb.webp)

![Юрий Нагибин - Непобедимый Арсенов [сборник]](/books/409429/yurij-nagibin-nepobedimyj-arsenov-sbornik-thumb.webp)
