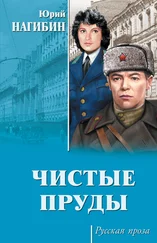Установив, о каком Лемешеве пойдет речь, Ансимов тратит много слов, чтобы скомпрометировать отношение к драматическому искусству одного из очень немногих оперных певцов, умевших играть и создавать полнокровные образы.
Лемешев умел и любил это настолько, что отказался от предназначенного ему по праву образа Грицька – надоели влюбленные герои, – чтобы сыграть сатирическую роль Афанасия Ивановича. Но Лемешев, не только близко наблюдавший, но и принимавший прямое участие в мучительном эксперименте Станиславского, раз и навсегда усвоил главное: то, что способно украсить драматический спектакль, губительно для оперы, которая должна прежде всего дать простор певцу. Этого не понимал молодой режиссер Ансимов: на репетициях он замучивал комическую оперу Обера суматошными мизансценами обычного комедийного театрального спектакля, где чем больше неразберихи, тем смешнее, заставляя вокалистов играть как актеров драмы. Так играть Лемешев не хотел, уплатив долг подобным заблуждениям еще в молодости. Ансимов подробно повествует, как он замешал Лемешева в устроенную на сцене кутерьму. Вот он напустил на Лемешева «разгневанного Милорда – Воловова с фонарем. С опаской глянув на Милорда, Лемешев, не прекращая пения, отошел влево, но там столкнулся с Церлиной – Гусельниковой. Тогда он решил уйти вправо, но на том конце угрожающе размахивал шпагой Лоренцо – Орфенов. Оглянувшись вокруг, Лемешев убедился, что самым безопасным будет для него то место, которое было определено для Фра-Дьяволо раньше. Нехотя, пожимая плечами, всячески показывая тем самым, что у него просто нет другого выхода, он перешел туда. Но не успел он остановиться, как Воловов – Милорд сунул ему фонарь...». Цитировать дальше неприятно – великого артиста травят на сцене, как крысу. И почему изобретательный режиссер остановился на этом? Можно было пригнать на сцену лошадь, ту самую, на которой выезжает Грозный в «Псковитянке», и заставить ее лягнуть певца или вывалить ему на ботфорты пахучие яблоки. Ах как бы заиграл обложенный со всех сторон фонарщиками, шпагомахателями, неуклюжими Церлинами и лошадьми «рутинер», полагавший, что оперная сцена существует прежде всего для пения!
Довольный собой, Г. Ансимов сообщает, что, расшевелив таким образом Лемешева, он заставил его играть, хотя и не добился полного понимания своих режиссерских принципов. Да, при всей своей бытовой покладистости Лемешев был тверд и стоек в вопросах искусства. Опера «Фра-Дьяволо» имела громадный успех благодаря блистательному исполнению Лемешевым главной роли, на все остальное публика и внимания не обратила, добродушно списав молодому постановщику его просчеты. Понимая это, режиссер-новатор довольно сурово расстается с Лемешевым на страницах своей книги, не забыв при этом поместить большую фотографию певца с теплым посвящением ему, Ансимову. Это выглядит непоследовательно, но ловко. Если же говорить серьезно: тем, как написал Ансимов о Лемешеве, он лишил себя права помещать в книге его снимок, да еще с такой надписью... И последнее: одно дело писать о живых, они могут ответить, защититься, сами перейти в наступление, другое – о мертвых, тут необходимы бережность и деликатность: ведь они немы.
Вернусь к основной теме. От оперы Лемешев повел меня к романсу и песне. Казалось бы, естественней назвать песню раньше, она и доходчивей, да и как пел Лемешев русские народные песни! Но, утверждаясь на сцене Большого театра, Лемешев и в концертах пел арии из опер и первоклассные романсы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Листа, Шуберта, Бизе. А русские песни, как и неаполитанские, появились в его репертуаре позже, и, если не ошибаюсь, сперва на пластинках, в радиопередачах, затем в концертах, преимущественно сборных. Лишь после «Музыкальной истории» русские песни прочно утвердились в его концертном репертуаре, нередко занимая целое отделение, а затем он уже стал давать концерты целиком из русских песен в сопровождении оркестра народных инструментов.
Если живопись помогла мне проникнуть в красочный мир оперы, то к романсу я, наверно, пришел от литературы, которая с юности завладевала мной все сильнее, хотя до поры скрывала, что станет судьбой. И опять же не случайно в страну романса должен был ввести меня Лемешев. Дело не только в том, что Лемешев той поры пел романсы, прекрасные по словам, находившим во мне живой отклик, но он всегда глубью души знал, о чем поет, каждое слово было напоено смыслом, каждая нота – переживанием. Последнее становится особенно важным, когда широко известны обстоятельства, породившие тот или иной поэтический выплеск, ставший затем достоянием музыки. Так, в «Зимнем вечере» представляется совершенно неоправданным всякое форсирование звука, допускаемое иными певцами, ибо это идет вразрез с тихим, печальным настроением Пушкина, коротавшего в михайловском изгнании долгие зимние вечера в обществе своей няни Арины Родионовны и кружки, веселившей тоскующее молодое сердце одного и старое, соболезнующее барину-затворнику сердце другой. Зимнее, тихое одиночество владело Пушкиным, и это тонко почувствовал его лицейский товарищ М. Яковлев, переложивший стихи на музыку. Но иные певцы начинают истошно кричать на словах «Спой мне песню», быть может, желая показать, что содержимое кружки уже подействовало. Напрасно. Вопреки всем своим вакхическим песням Пушкин был человеком трезвым, вот Арина Родионовна любила-таки пропустить лишнюю рюмочку, но романс вовсе не о том...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
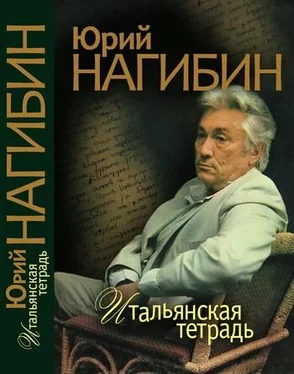
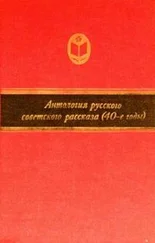
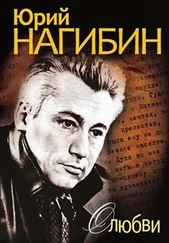
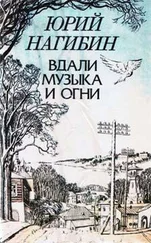
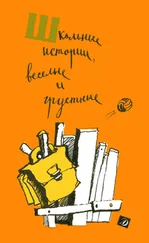
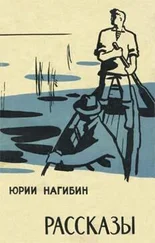

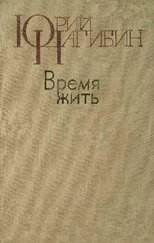

![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/books/128605/yurij-nagibin-vmesto-predisloviya-k-sborniku-vremya-thumb.webp)
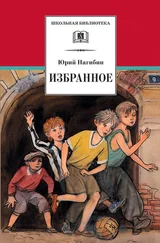
![Юрий Нагибин - Непобедимый Арсенов [сборник]](/books/409429/yurij-nagibin-nepobedimyj-arsenov-sbornik-thumb.webp)