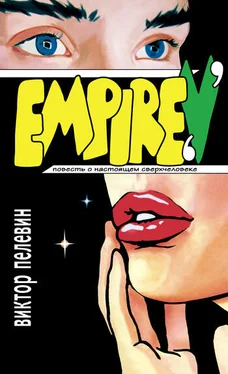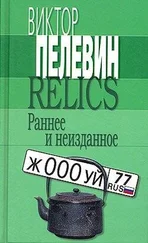К примеру, проезжая в такси по Варшавскому шоссе, я поднимал глаза и видел на стене дома двух медведей под надписью «Единая Россия». Вдруг я вспоминал, что «медведь» – не настоящее имя изображенного животного, а слово-заместитель, означающее «тот, кто ест мед». Древние славяне называли его так потому, что боялись случайно пригласить медведя в гости, произнеся настоящее имя. А что это за настоящее имя, спрашивал я себя, и тут же вспоминал слово «берлога» – место, где лежит… Ну да, бер. Почти так же, как говорят менее суеверные англичане и немцы – «bear», «bär». Память мгновенно увязывала существительное с нужным глаголом: бер – тот, кто берет… Все происходило так быстро, что в момент, когда истина ослепительно просверкивала сквозь эмблему победившей бюрократии, такси все еще приближалось к стене с медведями. Я начинал смеяться; водитель, решив, что меня развеселила играющая по радио песня, тянул руку к приемнику, чтобы увеличить громкость…
Главной проблемой, которая возникала поначалу, была потеря ориентации среди слов. Пока память не приводила фокусировку в порядок, я мог самым смешным образом заблуждаться насчет их смысла. Синоптик становился для меня составителем синопсисов, ксенофоб – ненавистником Ксении Собчак, патриарх – патриотическим олигархом. Примадонна превращалась в барственную даму, пропахшую сигаретами «Прима», а enfant terrible – в ребенка, склонного теребить половые органы. Но самое глубокое из моих прозрений было следующим – я истолковал «Петро-» не как имя Петра Первого, а как указание на связь с нефтяным бизнесом, от слова petrol. По этой трактовке слово «петродворец» подходило к любому шикарному нефтяному офису, а известная строка времен первой мировой «наш Петербург стал Петроградом в незабываемый тот час» была гениальной догадкой поэта о последствиях питерского саммита G8.
Эта смысловая путаница распространялась даже на иностранные слова: например, я думал, что Gore Vidal – это не настоящее имя американского писателя, а горьковско-бездомный псевдоним, записанный латиницей: Горе Видал, Лука Поел… То же случилось и с выражением «gay pride». Я помнил, что прайдом называется нечто вроде социальной ячейки у львов, и до того как это слово засветилось в моей памяти своим основным смыслом – «гордость», я успел представить себе прайд гомосексуалистов (видимо, беженцев с гомофобных окраин Европы) в африканской саванне: два вислоусых самца лежали в выгоревшей траве возле сухого дерева, оглядывая простор и поигрывая буграми мышц; самец помоложе качал трицепс в тени баобаба, а вокруг него крутилось несколько совсем еще юных щенят – они мешали, суетились, пищали, и время от времени старший товарищ отпугивал их тихим рыком…
В общем, избыток информации создавал проблемы, очень похожие на те, которые вызывало невежество. Но даже очевидные ошибки иногда вели к интересным догадкам. Вот одна из первых записей в моей учебной тетради:
«Слово „западло“ состоит из слова „Запад“ и формообразующего суффикса „ло“, который образует существительные вроде „бухло“ и „фуфло“. Не рано ли призывать склонный к такому словообразованию народ под знамена демократии и прогресса?»
Я развивался быстро и без особых усилий, но одновременно терял свою внутреннюю незаполненность. Иегова предупредил, что эти занятия сделают меня старше, так как реальный возраст человека – это объем пережитого. Воруя чужой опыт, я платил за него своей неопытностью, которая и есть юность. Но в те дни происходящее не вызывало у меня сожалений, потому что запасы этой валюты казались мне безграничными. Расставаясь с ней, я чувствовал себя так, словно я сбрасываю балласт, и невидимый воздушный шар поднимает меня в небо.
Обучение дискурсу, по заверениям Бальдра и Иеговы, должно было раскрыть передо мной тайную суть современной общественной мысли. Важное место в программе занимали вопросы, связанные с человеческой моралью, с понятиями о добре и зле. Но мы подходили к ним не снаружи, через изучение того, что люди говорят и пишут, а изнутри, через интимное знакомство с тем, что они думают и чувствуют. Это, конечно, сильно пошатнуло мою веру в человечество.
Глядя на разные человеческие умы, я заметил одну интересную общую особенность. В каждом человеке была своего рода нравственная инстанция, к которой ум честно обращался каждый раз, когда человеку следовало принять сомнительное решение. Эта моральная инстанция давала регулярные сбои – и я понял, почему. Вот что я записал по этому поводу:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу