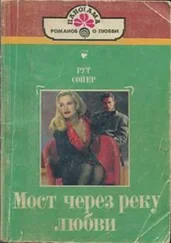— Шлюхи, будете знать, как по ночам разгуливать!
С тех пор наш комендант-коммунист каждую ночь выходил к автобусной остановке встречать женщин с ночной смены.
А потом в наше женское общитие все-таки проник мужчина. Однажды ночью мы обнаружили перед дверями общития незнакомого мужчину, он лежал в снегу прямо на пороге. Ширинка у него была расстегнута, и трусов под брюками не наблюдалось. К тому же он обмочился. Все общитие уже спало мертвецким сном, и мы, трое девчонок, попытались поднять мужчину на ноги. Он, кстати, охотно дал себя поднять, но, встав, тут же вышел на улицу и уселся в снег прямо на проезжей части. Мы побоялись, что его задавит машина. Поэтому мы привели мужчину в общитие, уложили в холле на кушетку, а сами ушли спать. В пять утра, когда первые женщины вышли в холл и зажгли свет, мужчина с блаженной улыбкой все еще дрых на кушетке, а из брюк всем на обозрение торчал его пенис.
— Эти три девки совсем очумели! — негодовали женщины. — Мы пойдем к директору завода Изуверу.
И потребовали, чтобы Голубка, жена коменданта — коммуниста, вела их к директору и переводила там их возмущенные речи. Комендант-коммунист внимательно их выслушал, потом принялся урезонивать. Впервые он начал свои предложения не словами «сладкая моя» или «сладкие мои», а сказал: «Дети мои». Женщин это настолько потрясло, что они сразу умолкли. А комендант-коммунист собрал нас всех в холле — одних теперь называл «детьми», других «сладкими» — и расселил по комнатам заново. Теперь «дети» стали жить с «детьми», «сладкие» со «сладкими», «ослицы» с «ослицами», а «шлюхи» со «шлюхами».
После чего в нашем женском общитии вдруг стало тихо, как на кладбище: казалось, слышно, как снег падает на улице. В холле не было ни души, только большие часы на стене недоуменно тикали. Снег заметал во дворе огромную мусорную бочку и надпись: «Игры детей во дворе запрещаются». В первые вечера после перераспределения комнат почти никто в холл не выходил. Во всех комнатах женщины перемывали косточки обитательницам других комнат. «Дети» в своих комнатах изображали друг другу «сладких», «ослиц» и «шлюх», «шлюхи», «ослицы» и «сладкие» изображали друг другу «детей». Все наперебой передразнивали выражение лиц, жесты, говор соседок, потешались над тем, как соседки ходят, как едят, и в итоге этих передразниваний все женщины мало-помалу снова стали походить друг на друга. Их лица, повадки и речи вбирали в себя лица, повадки и говоры соседок, постепенно привыкая к ним. «Сладкие» теперь жили в «детях», «дети» поселились в «шлюхах» и «ослицах», и понемногу все снова друг с другом сжились. В автобусе теперь все опять садились вперемешку, на кухне общития кастрюли и сковородки переходили из рук в руки без всякого разбора, и никого не интересовало, кому эти руки принадлежат — «сладким» или «ослицам», «шлюхам» или «детям». Так что вскоре и полкурицы из «Венского леса», и гороховый суп из «Ашингера» никому уже не казались диковиной.
Впрочем, пока остальные осваивали «Венский лес» и «Ашингер», мы, трое девчонок, вместе еще с несколькими женщинами, нашим комендантом-коммунистом и его Голубкой-женой повадились ходить в объединение турецких рабочих, что располагалось в подвальной квартире напротив нашего общития, аккурат между киоском-закусочной с котлетами из конины и Театром Хеббеля. Вот там мы впервые встретили в Берлине турецких мужчин. Мы их, кстати, сперва скорее даже не увидели, а услышали. Они явились нам в голубой дымке, как в грезах или во сне. Ибо в комнате было накурено до синевы. Чей-то мужской голос сказал:
— Друзья, давайте-ка проветрим, а то даже лиц не видно.
Кто-то распахнул дверь, в дверном проеме кружил снег и влажно поблескивала мостовая. Дым постепенно выветрился, но снег в двери остался, словно колышущаяся тюлевая занавеска. Как только мы вошли — в комнате еще ничего нельзя было разглядеть от дыма, — мужчины начали улыбаться. Улыбка не сходила с их губ, пока ветер не выгнал весь дым на улицу. Так что поначалу они даже говорить не могли, только улыбались, трясли головами и смотрели на нас, пока улыбка наконец не перекочевала с их губ в их глаза, и они стали улыбаться нам глазами. Теперь они наконец заговорили. Перехватывали сигарету из правой руки в левую, а правую подавали нам. Рука все еще пахла табачным дымом. Студент с потухшей сигарой в уголке губ сказал:
— Меня зовут Ягмур (Дождь).
Одна из девушек тут же шутливо откликнулась:
— А меня Самур (Грязь).
Читать дальше