С другим — с парнем — самое трудное не уснуть. Зато говорить можно, что в голову взбредет.
Я принимаю их по субботам, утром; первую — в восемь, едва пробудившуюся, еще совершенно отупевшую от сновидений и не смеющую мне признаться, что ее преследовал в переходе метро мужчина с револьвером в кармане; второй прибывает около десяти, тоже только открывший глаза и не вполне еще выкарабкавшийся из своего глубокого сонного одеревенения. Они сталкиваются в передней, парень сомнамбулически останавливает на девушке учтивую улыбку; девушка, восхищенная таким множеством прямых линий, жестких и подвижных сочленений, краснеет и фыркает от смеха.
Мне вручают конвертик от мамы. Спасибо. Кладу добычу в ящик, небрежно, чтобы мой письменный стол не слишком напоминал тумбочку у кровати; усаживаю мою грузную отроковицу. Выслушиваю очередной сон. Пытаюсь дать ей понять, что для такого рода снов существуют специалисты. Уйма специалистов. Моя роль не так легка, если оставаться в рамках приличий, разумеется. Но раз уже мне за это платят, плету свои небылицы: лететь над шпилем Сент-Шапель — это благодать; слово «благодать» ей нравится. Я сам уж давным-давно ни над чем не летаю. Так чем же мы займемся сегодня? Одним из положений Канта или взглядами Бергсона?
Куда там! Она пришла поговорить о своих снах; и, коль скоро мне за это платят, я вынужден слушать. И я слушаю. А мальчик, который ходит к вам после меня, тоже видит сны? Нет, не думаю! Да? Вот бедняжка. И в самом деле бедняжка.
Уже зима, здесь ведь всегда зима, и я вмерз в лед сотанвильской жизни. Я лишился подвижности: от гостиницы до техникума или от техникума до гостиницы, где я ужинаю и сплю, двигаюсь как автомат — одни и те же минуты, многожды повторенные.
Как далек месяц май, прекрасный месяц май! Я сожалею не о времени, которое ушло. Куда хуже: я угрызаюсь временем, которое есть, которое повторяет себя день изо дня. Что я минуту назад делал? Ничего! Ничегошеньки! И завтра больше нет, каждый день загнивает в своем накануне. Время гриппует.
Я недалек от некоего подобия смерти; на манер насекомых, затонувших в прозрачном пластиковом кубе пресс-папье. Нужно спасаться! Немедленно принять, например, очень горячую ванну. Но мне ни за что не смыть с кожи то, что прилипло.
Вдохнуть свежего воздуха, пробежаться под деревьями, кричать, кричать и опять бежать, чтобы ветер драл кожу, чтобы крик драл горло, растворить в беге, в ясном холоде всю эту жирную грязь; я и на вид становлюсь все более и более дряблым: я — тесто в тесте сотанвильского существования, где самое ничтожное происшествие оставляет глубокий след, точно палец в глине. Мне кажется, что я страдаю. Но палец, проникая вглубь, ни на что не натыкается; внутри насекомого — пусто. Я болен изнутри, так болен, что утратил чувствительность к боли.
Вернуться в Париж? Позвонить инспектору, сказать, что хватит, что я не поеду в Сотанвиль, что мне там нечего делать, что я никому не нужен? Несерьезно.
И однако, это правда: я никому не нужен. Разве что сиделке. Ей я нужен; теперь я это понял. Ей нужно домашнее животное, которое можно гладить против шерсти, такое животное — я. Она и друзей-то своих навязывает мне именно для этого, чтобы меня позлить: я ей нужен. А мне она, напротив, не нужна; об этом следует поразмыслить на досуге. Если я, в самом деле, додумаю все до конца, я ее, конечно, брошу; но сейчас, с этим Сотанвилем, с поездом, с гостиницей, с письменными работами, которые нужно исправлять, мне некогда об этом думать.
Короче, если не считать сиделки, я никому не нужен, и это ужасно. Я обязан научиться смирению. Подлинному. Не смирению монахов, для которых оно — призвание, предмет экзальтации; смирению бедняка, ничтожества.
Когда я возвращаюсь по вечерам в свой номер и сажусь за стол проверять письменные работы, я слышу, как стол смеется.
Невольно вспоминаю времена, когда вещи не были так ироничны. Я веду урок; через окно гляжу в даль, возможно дальше, чтобы вещи, которые я рассматриваю, в свою очередь не заметили меня. Вдоль дороги на Париж туманным строем тянутся деревья. Небо плоское и серое, словно водная пелена в паводок. Три часа, прошу зажечь свет.
И я говорю. Слушают меня — двое-трое; иногда — никто. Тогда я встаю и совершаю инквизиторский обход, я наказываю учеников тем, что читаю лекцию за их спинами. Угроза, нависшая над головой, вынуждает их записывать, но не слушать. Они умеют записывать, не слушая, но не умеют слушать, не записывая. И теперь, когда я убедил их своими заклинаниями, что записывать не стоит, а главное, заразил их своей скукой, они совсем перестали слушать. Да и так ли это важно? И могу ли я требовать от них интереса, раз сам его не испытываю? Я жду шести часов; по утрам жду обеденного перерыва.
Читать дальше
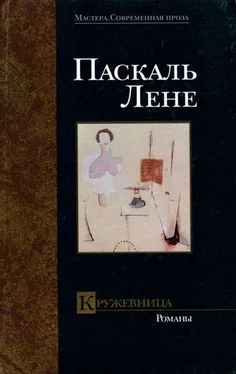

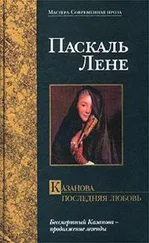






![Паскаль Энгман - Огненная земля [litres]](/books/386897/paskal-engman-ognennaya-zemlya-litres-thumb.webp)


