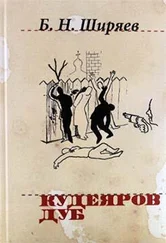— А здесь его, думаете, нет? И здесь его хватает. Вот подождите, еще нас с вами, нашу эмиграцию невзначай прихлопнут.
Практический человек мой коллега Петросян. Много у него здравого смысла и реального подхода к создавшейся ситуации.
— Удивительное дело, — продолжает, он. — ведь, смотрите американский налогоплательщик действительно нам помочь хочет, он действительно от себя отрывает чтобы собрать эти сотни миллионов, а во что эта помощь здесь превращается? Куда здесь эти миллионы идут? Кричат о правах человека, а сами его жмут, где только и как только могут.
— Молоды вы еще, потому и удивляетесь. А я с 1917 года эту картину наблюдаю. Во всех ее разнообразных аспектах. Все в порядке вещей. «Кто говорит, что любит человечество, тот не любит человека», это еще Блаженный Августин 1500 лет тому назад писал. Мудрый был старик, прозорливый.
32. Девичьи мечты профессора Криницы
Случилось так, что все трое моих коллег разом поручили долгожданные визы и пароходные номера. Петросян и Барабанов ликовали, Криница особого энтузиазма не высказывал.
— Как-никак, а тут все-таки жили… А там что ждет?
Накануне их отъезда собрались попрощаться в одной из баньольских полутемных, безоконных закуток. Справа за картонной перегородкой с необычайным для его возраста трудолюбием выл джулианский младенец, призывая запершую его и сбежавшую судачить с приятельницами мать. Слева слышались страстные реплики происходившей там семейной сцены. Определить национальность ее участников было трудно, так как ругались равно ярко и эрудированно на трех языках. На обоих концах корридора соревновались два радио: одно пело по-английски какой-то псалом, а другое по-итальянски убеждало кушать только сыр «Мио»…
— И это по вашему жизнь? — ответил Кринице Петросян. — Как вы думаете, посадить бы сюда хоть Толстого или Маркса, много бы они написали?
— Мы не Толстые, — со вздохом ответил Криница, — мы люди маленькие.
— «Цыпленки тоже хочуть жить!» Нет, лучше уж в грузчики, в подметайлы, бутылки с неграми мыть, да только вон отсюда! В Сахару! На полюс! К черту! В лагере я постоянно чувствую себя оплеванным! А кричат о свободе личности… — взрывается Петросян.
— Заедем в Америку, а потом оттуда назад ехать, — не унимается Криница.
— А куда это — назад?
— А в Россию. Теперь уже можно с полной ясностью…
— Тридцать лет у вас эта ясность! Ну, допустим, война, переворот и все прочее…
— В тот же день выеду.
— Куда?
— Как куда? К себе. В Запорожье, на Днепр.
— А там что делать будете?
— То же, что и раньше делал, до отъезда.
— Эх, милый вы мой Василий Игнатьевич, — вмешиваюсь я, — да ведь «вашего»-то Днепра нет больше, и порогов нет, и «вашего» дела там нет, такого, в том виде и форме, как вы его тридцать лет тому назад делали.
— Это вы о всяких сдвигах, реформах и прочем? Все это — большевизм. Мы повернем.
— Как раз! Повернули! Нет, дорогой, тридцать лет жизни назад не поворачиваются.
— Так что-ж, мы, по-вашему, за бортом, — вмешивается Барабанов, — нам и места в освобожденной России не найдется?
— Это как сами пожелаете. Только для этого места не повернуть, а самим повернуться надо, «тихую украинскую ночь» забыть, а с нею вместе и еще очень многое, то, что вы в своих чемоданах прихватили и до сих пор с собой таскаете. Не вам одним, но и нам, «новым», тоже. Думаете, эти пять ировских лет для нас даром прошли?
— Переходя в плоскость политики, — дидактически начинает Барабанов, — не будете вы отрицать, что авторитет народных избранников будущего учредительного собрания…
— Матрос Железняк уже раз вам эту авторитетность подтвердил.
— …созванного на основе всеобщего, тайного, равного… — продолжает отстукивать Барабанов.
— Да кто обеспечит вам это всеобщее, тайное, равное-то?
— Значит, по-вашему, нам надо складывать руки?
— Отнюдь нет. Наоборот, действовать ими с максимальной активностью, а заодно и мозгами и ушами тоже. Слушать внимательно, чутко слушать, что вот эти Андреи Ивановичи, Селиверстычи, Коли, Пети, Феди — все наши баньольские, паганские и прочие знакомцы говорят, что думают. Нет, не нас с Петросяном. Мы оба уже люди порченые, а их…
— Вы отметаете общественную роль интеллигенции.
— Ничуть, но я вижу ее не в навязывании массам своих рецептов, кстати сказать, безнадежно устарелых, как «слева», так и «справа», но в улавливании и оформлении того, что происходит сейчас в душе этого Ивана… Селиверстыча… Михайлыча и т. д. Вот в чем, дорогие коллеги!
Читать дальше