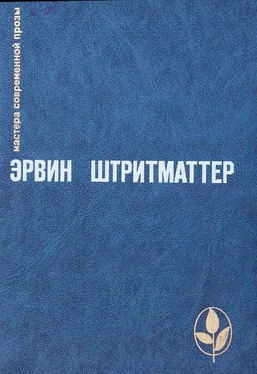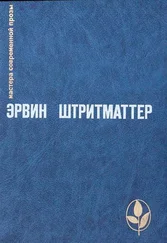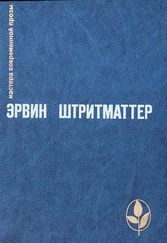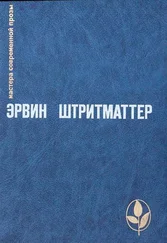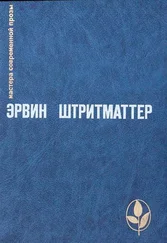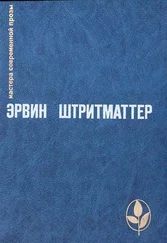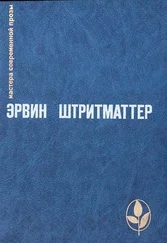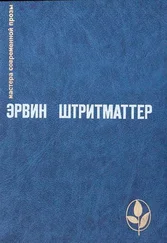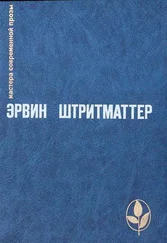Прошло двадцать лет. И вот уже десятый год я каждое лето езжу в Веймар. Там я живу в пресловутом отеле «Элефант», порог которого я раньше мог переступить, только чтобы передать лакею багаж дам Разунке. С благодарностью брожу я по старому Веймару, заглядывая во все уголки, точно пряностями сдобренные присутствием великих призраков, во все те уголки, которые уже тогда были ко мне гостеприимны, и вспоминаю те времена, когда мне разрешалось ужинать только в кучерском трактире.
Никогда не забываю я посетить кладбище, на котором распались в прах те, чьи творения оказались достаточно великими, чтобы дожить до наших дней. А рядом с великими лежат и другие, которые что-то значили лишь для своего времени, и возле длинной кладбищенской стены я обнаружил однажды надгробную плиту фрау Тины Бабе, тщетно намеревавшейся при помощи своей поэзии напитать классикой тогдашнюю обыденность. Я помню о ней, она была моим другом, так мы тогда решили, и я преклоняю голову.
Но я все еще не читал ничего из написанного фрау Бабе. Один мой друг из Йенского университета пришел мне на помощь: прислал мне на время из университетской библиотеки один из романов фрау Тины Бабе о Гёте. Я говорю «один», ибо фрау Тина Бабе написала их великое множество. Это выяснилось из когда-то мною виденных списков мюнхенского издательства. Роман, о котором я говорю, касается любви Гёте к фрау фон Штейн, и там есть одно место, которое я себе выписал:
«…Она опустила голову, так что темные локоны упали ей на глаза, оставив открытыми узкие виски и щеки. Она тихонько промолвила:
— Ты же знаешь, что такими словами лишаешь меня сил, Вольф. Ты мужчина, которого я люблю… и ты, как ни прискорбно, поэт. И этим двойным оружием, mon cher, ты разишь меня наповал.
— Разве сегодня при веймарском дворе считается, что быть поэтом так уж прискорбно?
— Что ты говоришь! Но ведь какая опасность для женских сердец, в особенности для моего сердца, которому присуща странная мания — принимать в себя смертельные стрелы слов.
— Dieu merci, но какое другое оружие остается мне, бедному очарованному пленнику, против тебя, любимейшая из женщин?
Он привлек к себе ее удивительно нежное лицо и своими сияющими глазами заглянул в ее глаза, подернутые серой дымкой; взгляд ее был несколько беспомощным из-за близорукости.
Шарлотта фон Штейн улыбнулась, и эта улыбка сообщила бесконечную прелесть ее узкому, словно бы заостренному лицу.
— Милый мой обольститель, — сказала она, — стоит мне только вообразить, что я защищена от тебя, как я чувствую, что еще больше запутываюсь в твоих сетях.
Сжимая Шарлотту в объятиях, он потемневшими глазами поверх ее головы смотрел вдаль, словно стремясь прочитать какие-то еще неведомые слова…»
Ну что ж, в добрый путь!
Я хочу завершить рассказ о моем друге Тине Бабе без всякой морали и без всяких нравоучений, просто улыбкой.
Себе на утеху
Перевод Э. Львовой [88] © Aufbau-Verlag, Berlin, 1981. Текст печатается по журналу «Иностранная литература», 1982, № 7.
Так же безоговорочно, как поэтам, я верю ученым, ибо постиг, что в каждом истинном поэте скрывается ученый, а в каждом истинном ученом — поэт. И каждый истинный ученый знает, что его гипотезы суть смутные поэтические предчувствия, а каждый истинный поэт — что его смутные предчувствия — недоказанные гипотезы. Но ни тот, ни другой не дают сбить себя с толку и, весьма возможно, считают себя полярными противоположностями.
Я видел пьесу, ей было пятнадцать лет от роду, и я сам написал ее. Передо мной разостлали мою старую, сброшенную кожу. Вещью в себе лежала передо мной сброшенная кожа мыслей и слов, и мне не было до нее никакого дела. Ибо я хожу облаченный в новую кожу новых мыслей, и эти мысли я тоже облекаю в слова и в один прекрасный день надеюсь сбросить и эту кожу.
Атом соединяется с другим атомом, становится человеком и пытается в этом обличье узнать что-то о себе самом.
Куда девается это знание, когда атомы снова разъединяются? Остается ли частичка его в каждом атоме? Или опыт возникает только в сочетании атомов? Если это так, то не имеем ли мы здесь дела с пресловутым deus ex machina, богом из машины?
Мне кажется, что в раннем детстве я услышал звук, вернее, тон, мой тон. И вот я ищу его пятьдесят лет, ищу в гуле оркестра и в простейших пьесках, в шуме струящейся воды и в шуме ветра. Он возникает то там, то здесь, и я не теряю надежды встретить его одного, звучащего только для меня.
Читать дальше