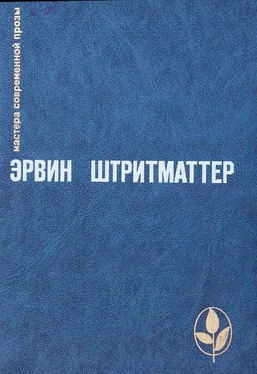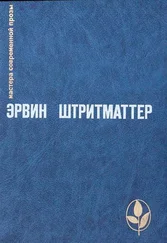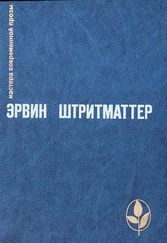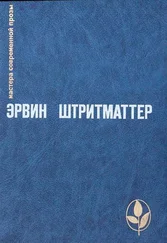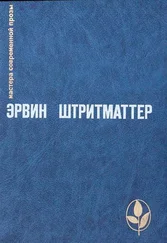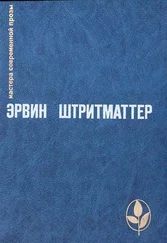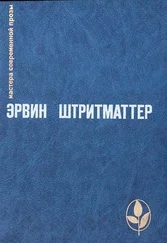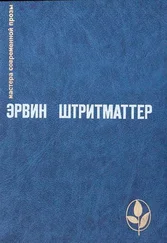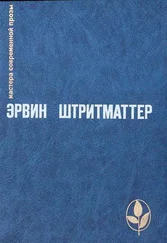Я тоже часто вспоминаю Чарли Винда. Разве не пришлось и мне вновь и вновь освобождаться от цепей, менять профессии, взгляды, позицию и разве не ощущал я постоянной потребности поступать иначе, чем требовал окружающий мир? И разве не мечтаю я о том, чтобы в мыслях и чувствах своих подняться по наклонной проволоке от последних крыш деревни до верхушки радарной башни, а оттуда в неисследованные высоты, чтобы принять зашифрованные новости из космоса и, расшифровав, передать их дальше?
Послесловие
Я забыл сказать, что мне довелось еще раз столкнуться с Чарли Виндом, правда косвенно. После войны я работал в своей родной деревне в канцелярии.
Однажды ко мне пришла приятная дама, белокурая и черноглазая, из тех женщин, которых, раз увидев, не позабудешь. Она была плохо одета, все мы были тогда бедны. Посетительница просила метрику в трех экземплярах — она собиралась замуж.
— Ваши имя и фамилия? Год рождения?
— Карла Винд, год рождения тысяча девятьсот двадцать второй.
— Маленькая барышня из Парижа? Циркачка? — спросил я. У дамы приподнялась верхняя губка. Я узнал улыбку Чарли Винда.
— Я ничего не знаю о циркачках и Париже. Мы всегда жили здесь.
На это нечего было возразить, и я не возражал и ни о чем не спросил, но меня поразило, как люди, пережившие ужасную войну и великий дурман, в котором они так долго находились, так легко начинают снова лгать. Неужто прав был Чарли Винд, заключивший в вывернутый наизнанку конверт свое послание — послание, гласившее: люди гипнотизируют себя сами!
Суламифь Мингедо, доктор и вошь
Перевод Э. Львовой
Меня часто спрашивают, как я пришел к писательству. Спрашивают, словно сами упустили возможность прослушать курс лекций о том, как писать рассказы, и вознамерились теперь наверстать упущенное.
Школа, где учат писателей, и впрямь существует, там вы сможете узнать, как замечательно и с каким профессиональным мастерством излагали свои идеи и наблюдения Гёте, Бальзак, Толстой или Рильке, но отнюдь не то, как излагать собственные наблюдения вам. Для этого каждому приходится отправляться в собственную неведомую страну, и все равно, подстегивает вас страстишка посочинительствовать или сжигает великий талант, вам потребуется все ваше трудолюбие, упорство и мужество.
Как я пришел к писательству? Я размышляю: я пришел к нему или оно пришло ко мне?
Но прежде чем говорить о писании, расскажу о чтении. Я научился читать пяти лет, и не в школе, а у моего неродного дедушки, отчима моего отца, портного и владельца распивочной Готфрида Юришки.
Дедушка вошел в мое сознание в черном с высоким воротом свитере и с куцыми усиками. В дополнение к ним между дедушкиным подбородком и нижней губой прилепилась одинокая клякса — бородка, словно дедушке что-то помешало добриться.
В молодости Лужицкая равнина показалась слишком тесной молодому портновскому подмастерью, и он достранствовал до залива Атлантического океана, именуемого Северным морем. В Гамбурге он попробовал найти свое счастье, и оно явилось ему прямо из Америки в образе дочери его мастера Люра, которая обогнала деда и в возрасте, и в чадолюбии: она была на десять лет старше его и уже имела троих детей. Как и следовало ожидать, вспыхнула любовь, бабушка была кремнем, а дед — трутом.
Готфрид Юришка возвратился в родную деревню с полным мешком счастья. Деревня прозывалась Грауштейн — Серый камень: там возле церкви лежал серый валун.
«Ай да Готфрид, американская жена и трое краснокожих ребятишек!» — судачили в деревне.
Я один из потомков этих рыжих краснокожих. Тощие сбережения портновского подмастерья, ножницы, иголки и немного ниток — на все это дедушка оборудовал швейную мастерскую. Ему приходилось брать за работу дешево, чтобы выдержать конкуренцию с портным из соседней деревни, и его краснокожие детишки померли бы с голоду, если б прадедушка не выделил ему участок поля как задаток в счет наследства.
Прекрасная американка дедушки Готфрида старалась изо всех сил: впрягалась в ручную тележку, натягивала лямку, лямка соскальзывала с плеч на шею, и бабушка чуть не удавливала сама себя. Ее лицо синело и краснело, она, кряхтя, тащилась по деревенской улице, а соломенные крыши домов плясали от злорадного хохота добрых односельчан.
Американка с трудом приживалась на песчаной равнине.
Случилось так, что трактир на верхнем конце деревни остался без хозяина, и Готфрид вытребовал остаток от своей доли наследства деньгами, арендовал трактир и получил теперь еще одного конкурента — трактирщика с нижнего конца. К верхнему трактиру относилось местное почтовое отделение с телефоном-коммутатором, там бабушка Доротея проводила куда больше времени, чем требовалось, и наслаждалась, слушая чужие секреты.
Читать дальше