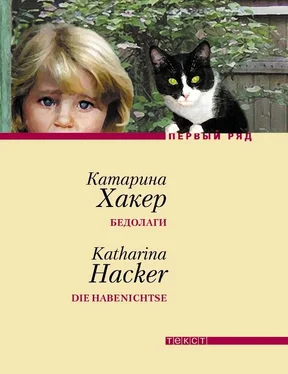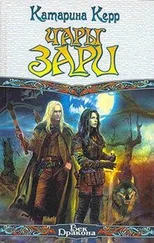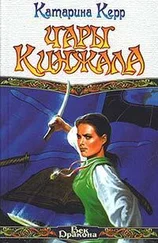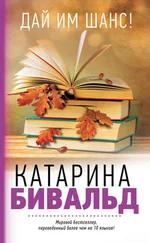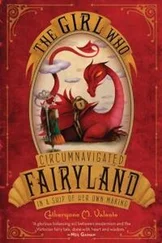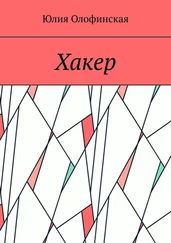— Сегодня вечером у меня свидание, и… — заговорила она.
— Сегодня вечером? — переспросила продавщица, будто Изабель сообщила о предстоящих похоронах.
Вот нелепая мысль, что вместо Якоба к ней на свидание явится, как в плохом кино, бывший фрайбургский любовник и его одежда, как это ни странно, опять будет пахнуть сеном. Подобно Якобу, он бы тотчас ее узнал, ведь она со своих двадцати лет почти не изменилась, и лицо у нее такое же чистое, невинное.
Так она вышагивала перед зеркалом, разглядывая туфли. Продавщица наблюдала за ней, скрестив ноги в длинных узких брюках, поигрывая туфелькой на высоком каблуке, розового цвета, с каким-то золотым насекомым вместо пряжки, скорчив гримасу и не говоря ни слова. Она забыла включить музыку, но что за музыку можно слушать в такой день? И машины по улице едут, кажется, медленнее обычного. Через стекло витрины видно ребенка на велосипеде, мать крепко ухватилась за багажник. Якоб не допускал сомнения в том, что они сегодня увидятся, в «Вюргенгеле», и потом тоже. «А потом посмотрим». Этого можно было и не говорить; он уже не улыбался, а Гинка захихикала и с подчеркнутой деликатностью прикрыла дверь. Тук-тук, каблучки-полумесяцы по паркету, тут бы музыку, ритм, сентиментальную песенку, и продавщица пошла к прилавку, наклонилась к стереоустановке, грациозно, от бедер, ноги прямо, только выставив назад маленькую попку, так что блузка задралась и чуточку открыла спину, белую и худую, а внизу, где начинаются ягодицы, гладкую и упругую.
— Классно смотрится, честное слово, — сказала она равнодушно.
Сегодня утром Изабель наконец застала Алексу. «Да ладно, что такое с нами могло случиться? Что тебе беспокоиться?» А фоном смех Клары. Изабель ощутила легкий укол, как и всякий раз, когда оказывалась не главной, не играла первую скрипку для Алексы, а ведь никогда и не играла, да и отчего бы? Оттого, что они два года жили в одной квартире? Зато сегодня вечером ее ждет Якоб. «Буду ждать тебя», — сказал и ушел. Первый год в Берлине Изабель как безумная покупала тряпки, чтобы избавиться от гейдельбергской, от фрайбургской провинциальной духоты, но Ханна ее высмеяла. Алекса переехала к Кларе, и с тех пор Изабель копила деньги, словно берегла свое прошлое и свое будущее, надеясь, что в узком зазоре между ними останется цела и невредима, вообще не касаясь денег, присланных родителями «для свободного пользования», как каждый раз писал ей отец на Рождество и на день рождения.
Изабель скинула туфли, в черных чулках стала на паркет и кивнула продавщице. Двести семьдесят девять марок. На улице со скрежетом отъехал от остановки трамвай. Решительным движением Изабель сунула кроссовки в протянутый ей бумажный пакет, опять скользнула в новые туфли. Каблучки четко застучали по тротуару, ребенок с велосипедом, мальчишка, посмотрел на нее внимательно и просиял, когда ему удалось забраться на седло и неуверенно тронуться с места. Он едва не упал, еще раз оглянувшись на Изабель. Дети ее любят, будто она сама ребенок, только переодетый, повзрослевшая девочка-подросток, — утверждала Алекса и купила махровое детское белье, чтобы сфотографировать в нем Изабель. В воздухе кружил вертолет.
Якоб проснулся рано и пошел пешком в бюро. После вчерашнего дождя улицы высохли, но день был холодный, неприветливый. В марте ему исполнилось тридцать три, подведение итогов еще одного прожитого года занимало его все меньше. Отныне время пойдет по-другому, медленнее. «Под тем, что прошло, довольно подвести черту, надо просто сделать несколько записей ради ориентира, — думал он. — Несложный случай, требующий краткого комментария». Серьезные лица немногочисленных прохожих его раздражали, с ними-то ничего не случилось. «Не было такого уговора — вот и не случилось», — размышлял он. С самой смерти матери несчастье и его обходило стороной.
Она умерла незадолго до того, как Якобу исполнилось двенадцать, и тогда к ним с отцом переехала тетя Фини. Она готовила на кухне с тайным удовлетворением оттого, что младшему брату без нее не обойтись, что его брак с той мещанкой из Померании так или иначе разбился. О смерть разбился. Якоб несколько недель подряд даже говорить не мог, уж по крайней мере с тетей Фини, а та мало-помалу выносила вещи из комнаты своей невестки Ангрит, сокрушаясь, что против секретера в стиле бидермейер, подаренного братом жене, возразить было нечего. Зато письма и фотографии она повытаскивала изо всех ящиков, а остальную мебель заставила вывезти: два кресла, столик, яркие стулья «Якобсен», купленные Ангрит Хольбах в семидесятые годы, надувные прозрачные пуфики, лампы. Только четыре года спустя, когда тете Фини пришлось из-за Гертруды, новой отцовой подруги, покинуть дом, Якоб заметил, как там все переменилось. Он пытался вспоминать мать, яркие краски и четкие формы, которые та любила, и с нетерпением ждал минуты, когда покинет этот дом, когда не придется больше открывать дверь в глухую его тишину.
Читать дальше