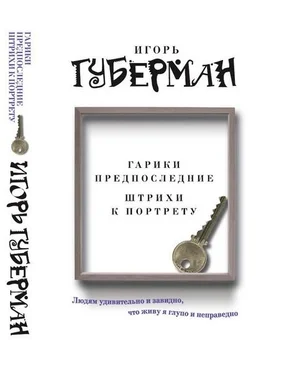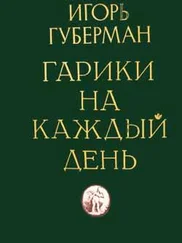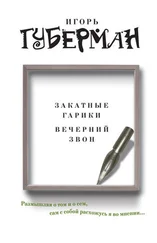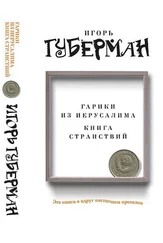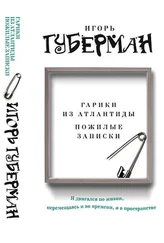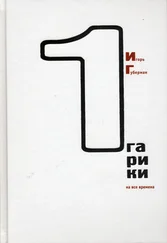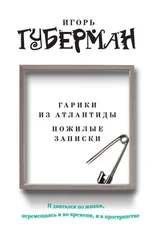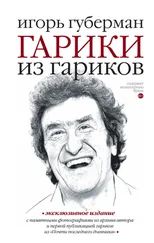Как тянулись годы рабства на чужбине, Рубин сестер подробно не расспрашивал, ибо одинакова у всех была эта трагедия, воспроизведенная миллионными тиражами: рабство плена описывать в России дозволялось. На чужбине ведь оно и вправду тяжелей, дома это всем казалось не рабством, а скорей тяжелым периодом, затянувшимся на несколько поколений.
Зато дома все вокруг свои. Дочери работали в услужении в немецких семьях, мать стирала где-то в госпитале, в сорок пятом удалось собраться вместе. Бесконечные лились слезы и рассказы о непрерывных унижениях. Одна дочь была прислугой в доме важного профессора-химика, жена профессора однажды чуть не убила ее: двухлетний ребенок, за которым она присматривала, случайно обварился кипятком, а так-то ничего, жила себе и жила на кухне. Вторая дочь была в деревне, доила коров, ходила за свиньями, полола огород, растила кур, и был еще породистый бык на особом присмотре и уходе. Вставала в пять, ложилась к ночи. Кожа у нее сходила с ладоней. Было ей пятнадцать лет. Все бы ничего, только сын хозяев бил ее при каждой встрече и старался побольнее попасть. Ровесник. После откупили ее у хозяев две сестры-монахини, жившие вместе со своим слепым братом. А в подвале они всю войну прятали, как оказалось, еврейскую семью: мужа, жену и пятерых детей. У монахинь ей жилось хорошо.
Ждали своей завтрашней судьбы с нетерпением. И она замелькала бесчисленными всюду объявлениями: «Дорогие репатрианты! Родина вас ждет, Сталин не забыл вас, Отчизна вас не накажет. Являйтесь в комендатуру!» Бегом они бежали, не раздумывая ни одной минуты.
После были несколько месяцев лагеря для перемещенных лиц. Хлеб, горох, баланда. Но вокруг свои — русская речь! Подтвердилось, что в плену себя ничем не запятнали. Эшелоны, долгая дорога, слезы от встречи с родиной… В Малоярославце своего дома у них уже не было — его занял какой-то местный начальник (не из крупных) и возвращать отказался. Аргумент он веский приводил: за это время сделал новую крышу, так что вроде дом теперь им и построен. Жаловаться побоялись, но начальник этот сам и помог: дал и им небольшую хибарку из брошенных в войну. Мать пошла прописываться, сказала, что будет через час.
И вернулась через десять лет. Судили ее в клубе, принародно — как пособницу немецких оккупантов. За те два месяца, что была она переводчицей в комендатуре. А двух старушек, хотевших рассказать, что переводчица спасла их дочерей, — не допустили выступить, чтобы не тратить время.
Мать вернулась домой глубокой старухой, первое время плохо различала детей, билась время от времени в приступах эпилепсии. А еще у нее астма была, нажитая в лагере, — врачи сказали, что, если приступы совпадут, она не выживет. Но она упрямо жила, ибо никак поверить не могла, что ее муж Николай Бруни мертв. Не выходила из головы идея, что послали его куда-то, где не хватало священников. А потому вот-вот вернется. Разубедить ее было невозможно. Прямо на улице бросалась она к пожилым мужчинам с сединой, пристально вглядывалась в лица. Дочь сказала: сильная сразу становилась, не удержать ее было в эти минуты.
Приступы эпилепсии каждый раз бывали точно (кроме неожиданных и внезапных), если исполняли по радио бетховенскую Лунную сонату. Это было любимое произведение Николая Бруни, он и дома его часто играл, а в Клину когда жили, в дом Чайковского ходил специально, чтобы на том рояле поиграть. Услыхав, что будет исполняться Лунная, радио спешили выключить, но не всегда успевали. И немедленно начинался припадок.
Тут опять невольно вспомнился Рубину великий гуманист, плакавший некогда от исполнения «Апассионаты», — ибо сказал тогда великий гуманист, что от музыки этой хочется ему плакать и по голове кого-нибудь гладить, а по голове — только бить надо сейчас. И добился. Так что приступы эпилепсии от Лунной были у Анны Александровны Бруни в прямой и непосредственной связи с той успешно подавленной в себе человечностью у Владимира Ильича Ульянова.
Мать умерла в пятьдесят седьмом, спустя неделю после получения справки о посмертной реабилитации мужа. Лучше бы не приходила эта справка, хмуро пояснила дочь, мы ведь знали, что давно уже нет отца, одна она только верила — не в себе была после лагеря.
В доме их, как издавна повелось, непрерывно кто-нибудь жил. Теснота неимоверная была, но жильцов пускали безотказно. Постояльцы здесь жили по году и больше, пока сами не становились на ноги, — ибо всё это были люди из лагерей и ссылок, ограниченные сто первым километром.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу