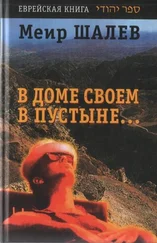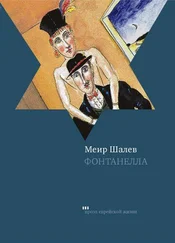С Бринкером я тоже в те дни очень сблизился. Профессор Фрицци порой приезжал проведать брата, но соседи его чурались, а сын и жена почти не появлялись в доме. Мертвая Хая наконец-то сподобилась учуять свой запах, и это повергло ее в такой ужас, что она принялась строчить письма и рассылать свои анализы еврейским врачам в Бостоне и Лондоне. Ноах с головой ушел в идиотские тетрадки журнала «Кино», вонял «Плейерзами» [94] «Плейерз»—сорт сигарет.
и поразительно наигрывал песенки братьев Германов на пилах и расческах. Бринкер то и дело жаловался мне на поведение сына:
— Ноах тоже и если не Тель-Авив каждый день пять пять очень, — ворчал он
А я сказал:
— Не страшно, Бринкер, это у него пройдет.
Я был единственным, кому удавалось понять его невнятные фразы, и так мы могли говорить целыми часами. Каждый посвящал другого в свои секреты, планы и надежды.
— И когда ты здесь мать и если один два ушли и еще и еще, — сказал он мне с неожиданным доверием, и рука его нарисовала эллипсы мольбы на моем колене, а я обещал, что никому не выдам его тайну. Сегодня я понимаю, что Бринкер был единственным другом, с которым позволял себе полную откровенность. Я любил его и знал, что он никогда меня не предаст—ведь даже если немцы захватят страну и он сломается и все расскажет под пытками, все равно никто не поймет ни слова.
Наши долгие беседы наделили меня новой способностью — я начал понимать языки, которых никогда не учил. Игра уголков рта, изменения рисунка морщинок, расширение и сужение зрачков, птичьи взлеты голоса — все это изобличало смысл произносимого. Словесные иероглифы Бринкера стали для меня средством перевода идиша Идельмана, русских слов господина Кокосина, арабского языка Джамилы, сдавленных рыданий Дудуч. Я вдруг стал понимать даже хинди, на котором говорили солдаты расположенной поблизости британской военной базы.
— Раньше, до того как Биньямин погиб, мне стоило закрыть глаза, и я всегда видел одну и ту же картину: Лею, как она входит в пекарню, и ее мокрая коса пахнет дождем, а пятки теплые на ощупь. Такая минута запоминается навсегда, и такой мне хотелось ее сохранить. Даже когда нам уже было плохо вместе, мне хотелось, чтобы мои закрытые глаза видели эту картину. Но теперь, когда я их закрываю, я вижу только его.
Наш хлебный грузовик внезапно свернул на обочину, пошел юзом, затормозил, подняв тучу пыли, и Яков, сняв с переносицы туман своих очков, протер их краем рубашки. Крупицы муки и песчинки смешались с его слезами, как они смешивались с потом нашей юности при разгрузке мешков с мукой и царапали наши толстые линзы, налипая на них.
Мы были на пути в Тель-Авив. Я потребовал, чтобы Роми пригласила нас на ужин по случаю примирения с отцом.
— Не бойся, — сказал он. — Со мной это не так уж часто случается. Только с тех пор, как ты приехал. Я немного распустился. У меня вдруг появилась аудитория.
И спросил, не хочу ли я сменить его за рулем.
— Нет, — сказал я. — Я и в Америке-то не очень люблю водить, а уж у вас и подавно. Постоим немного и поедем.
Через несколько лет после приезда в Америку я купил себе машину, синий «де сото». С тех пор прошло двадцать пять лет, а она не проделала и пяти тысяч миль. Большинство из них накрутила Роми, когда приезжала ко мне после армии.
— Ты знаешь такие картины? Те, что видишь только с закрытыми глазами? У тебя тоже есть такие?
Я не ответил. Да и что я мог ответить? Яков откровенен со мной и ничего от меня не скрывает. Как и в дни нашей молодости. Таков он был, когда влюбился в Лею и советовался со мной, таков он был в своих письмах в Америку, таков он и теперь.
— Мне говорят — время лучший врач. Говорят — время сделает свое. Так они говорят. Но, знаешь, может, время и делает свое, но оно не делает наше. Ничего не проходит и не забывается, и я вижу только его. Каж дый день и именно его.
В голосе брата слышатся и удивление, и боль, и еще некая толика неприязни, никому конкретно не адресованной, и его жажда близости томит меня, потому что я не могу ответить ему той же монетой. Со времен тех разговоров с Бринкером я позволяю себе откровенность только с чужими. Им я поверяю самую сокровенную свою ложь. Пассажирам ночных поездов, которыми я езжу на лекции, постояльцам гостиниц, в которых ночую, читателям рецептов, которые придумываю. Тебе тоже, иногда.
— Я любил его, как положено любить сына, не меньше и не больше, — сказал брат. Он унаследовал от отца упрямую склонность к тому, что «положено», к привычке и к обычаю, хотя и не признавался в этом. — Конечно, я его любил, и растил его, и делал для него все, что отец должен делать для сына, кормил и одевал, присматривал и заботился. Но к чему обманывать? Тебе я могу сказать. Ты мой брат, даже если ты не хотел видеть, даже, если ты не хотел знать. Даже если сбежал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу