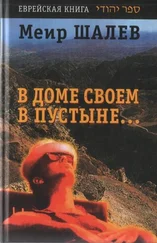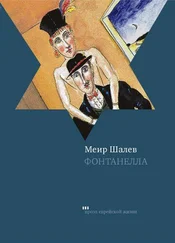— Покойник, — диагностировал он.
Он упрямо продолжает бриться опасной бритвой, и сочетание убийственного лезвия и дрожащих рук взращивает на его щеках и подбородке клумбы алеющих бумажных цветов, пока не делает его похожим на ободранного цыпленка, вывалявшегося в конфетти. Он забывает снять маленькие кусочки туалетной бумаги, что наклеивает на порезы, и эти окровавленные клочки, постепенно отпадая, порхают затем по всему дому, как крохотные обрезки крайней плоти.
Как-то утром я побрил его своей электрической бритвой. Он пощупал щеки и подобородок и одобрительно кивнул. Затем взял бритву и тщательно исследовал ее со всех сторон.
— Жужжит, — огласил он свой приговор. — Как нильская муха на окне фараона. — И вернулся к той же своей страшной опасной бритве и к тому же древнему зеркальцу для бритья.
Мы пили утренний кофе. Снаружи распевали черные дрозды. Через окно я увидел Якова, который открывал ворота для хлебного грузовика, и вышел, чтобы помочь ему погрузить ящики.
— Иди, иди, — сказал он. — Еще спину надорвешь.
Грузовик выехал со двора, и Шимон пошел прибрать в пекарне. Я вынес брату чашку кофе на веранду. Двое мужчин прошли мимо забора, и Яков кивнул им. Оба были нарядно одеты, у каждого в одной руке портфель, в другой — пластиковая сумка с покупками. Они посмотрели на нас и слаженно поклонились.
— Доброе утро, — сказали они.
— Утро доброе, — ответил брат.
— Вы не приходите к сыну, — сказал тот, что постарше, как будто всего лишь констатируя некий факт, а второй печально улыбнулся и покачал головой.
— Я прихожу, я прихожу, но не каждое утро, — ответил Яков.
— Кто это? — спросил я, когда они прошли.
— Коллеги по кладбищу, — сказал Яков. — Отсюда, из поселка. Ты не видел их еще? Каждое утро по дороге на работу идут туда побеседовать с сыновьями. Один раз тот, что помоложе, пришел поговорить по душам. Рассказал: «Мы с женой спим вместе, но плачем порознь, она больше не смотрит ни в зеркало, ни на меня». Понимаешь, она злится на зеркало, что не похожа на своего мертвого сына, и злится на мужа, что он ей этого сына сделал. Ты не поверишь, что он мне еще сказал: «Твое счастье, что твоя Лея все время спит и тебе не приходится видеть ее открытые глаза».
Яков снял ботинки и шумно вздохнул. Долгое стояние у печи, утверждает он, калечит спину и укорачивает ноги. Теперь он высвободил большие пальцы ног, и его лицо сделалось мягче.
— Делить удовольствия — большого ума не надо. Достаточно года совместной жизни, и всякая женщина уже знает, каким способом ее муж получает удовольствие. Но ни одна из них не знает, каким способом он скорбит. Что ты на меня уставился? Что ты вообще об этом знаешь? Что ты вообще знаешь о жизни? Было время, когда я думал, что знаю Лею так же, как знаю каждый кирпич в печи. Сколько молока в кофе, сколько лимона в чай. На рассвете я выбегал на минутку из пекарни приготовить ей зубную щетку и положить пасту, точно как она любит, чтобы все это уже ждало ее на умывальнике. Всё. Маленькие капризы, большие капризы. Пока Биньямина не убили и я увидел, что не знаю ничего. Скорбью и страданием поделиться нельзя. Это тянут на себе в одиночку. Не открывают никому.
Бессонная ночь, памятник сына словно каменная стена между ними, и каждая былая размолвка становится страшной раной, обвиняют себя совместно и себя по отдельности, а главное — друг друга. А этим поцам главное — сделать мне замечание, что я не хожу к Биньямину. Можно подумать, что я должен отбивать карточку на его могиле. Но я тебе скажу — когда наши сыновья были еще детьми и были живы, эти двое объявили мне войну, хотели выжить пекарню из поселка. Бедняга Биньямин — с тех пор как его убили, никто не осмеливается меня задеть. Теперь они вдруг мои лучшие друзья. Ты не ходишь к сыну… почему тебя не видно… приходи на эту церемонию… приходи на ту церемонию…
— Я тоже не хожу, — сказала мне Роми. — День памяти — это для тех, у кого в семье нет убитых. А для нас это безумная беготня ко всем камням и стенам, где написано его имя. Кому это нужно? И так не проходит дня, чтобы я не думала о нем, и для меня день поминовения — когда я его видела в последний раз. У меня есть даже его последняя фотография. Вот такая огроменная. Чего ты смеешься, дядя? Как тебе не стыдно?
В ее комнате есть тумбочка с десятками плоских ящичков: «Цитология», «Эмбриология», «Биньямин», «Споры растений», «Семья», «Проект», «Мой отец», «Мой отец», «Мой отец»… Пятнадцать ящичков «Мой отец», призванных в итоге образовать ту выставку, которую она хочет сделать о нем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу