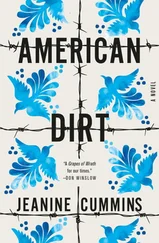Он не боялся других людей и не боялся будущего. Он любил все, что сделано человеческими руками, без труда пользовался вещами и мог починить что угодно. При этом ему нравилось работать с дешевыми и бракованными материалами. Всю жизненно важную информацию он получал только из собственных органов чувств, особенно он доверял ушам, которые безупречно улавливали и различали ритм. Он мог безошибочно определить состояние впускного клапана автомобиля, взглянув на выхлопную трубу. Однажды у него не оказалось под рукой спиртового уровня, и он отрегулировал горизонтальную поверхность по звуку часов: поставив их на поверхность, он изменял угол ее наклона, пока «тик» и «так» не стали звучать идентично. Он мог безошибочно настроить любой музыкальный инструмент, хотя никогда не интересовался музыкой, что сильно огорчало его отца – кларнетиста из труппы театра «Павильон». Дома у него было полно духовых, струнных и перкуссионных инструментов, которые он спасал, выкупая за пару шиллингов у уличного торговца и ремонтируя. Однако единственные звуки, которые он соглашался из них извлечь, были имитации птичьих голосов.
Когда я вспоминаю все это, у меня перед глазами непременно возникает его крупная голова в облаке черных вьющихся волос, из которых смотрит лицо с козлиной бородкой, скрывающей слабый подбородок. Никто не мог сказать с уверенностью, то ли он поразительно красив, то ли невероятно уродлив. У него была желтоватая кожа и странная арабо-итальяно-еврейская внешность. Думаю, отец его был евреем. Про свою мать – ирландку – он говорил: «Не из ирландцев-католиков, а из ирландцев-ремесленников». И одевался он как ремесленник. На любом другом его одежда смотрелась бы как нелепый ворох тряпок. Он же выглядел будто великий князь, в результате революции потерявший свой титул и прислугу. Или как представитель другой цивилизации, исповедующей более беззаботный, элегантный и практичный стиль одежды. Я помню всякие длинные шерстяные шарфы, армейские мундиры с оторванными сержантскими погонами, узкие вечерние брюки с черными шелковыми лампасами. В ненастную погоду брюки были заправлены в веллингтоновские ботинки, а в сухие и солнечные дни штрипки этих же брюк охватывали подошвы его сандалий. Наверное, мы смотрелись весьма экстравагантно, шагая вместе по улицам. Я был чуть пониже ростом, всегда в безупречно отутюженных брюках, жилете, кашне и пиджаке с неизменным белоснежным треугольником сложенного носового платка, торчащим из нагрудного кармана. Прогуливаясь, я имел привычку сцеплять руки за спиной. Алан обычно скрещивал руки на груди, но без малейшего намека на чванство или высокомерие. Ноги он ставил на землю бесшумно и твердо, словно пятачки земли под его ногами безраздельно принадлежали в этот момент ему одному. Иногда я замечал, как прохожие издалека смеются и показывают на нас пальцами, однако, поравнявшись с нами, они становились тихими и вежливыми. Алан был едва ли не шести с половиной футов ростом. Полагаю, это действовало на окружающих отрезвляюще.
Почему я ему нравился? Разумеется, я восхищался им, но ведь и все остальные им восхищались. Пожалуй, единственная польза, которая была от меня, – помощь с математикой. Он не ходил на математику на протяжении всего учебного года. Если бы он посетил хоть одно занятие, лектор бы заметил его, а потом отмечал бы его отсутствие на всех остальных лекциях. Но при этом математика была единственным предметом, по которому у него стояла стопроцентная посещаемость, потому что я всегда произносил его имя во время переклички. За несколько дней до экзамена я приходил к нему домой и читал вслух свои конспекты. Он слушал, лежа в кровати, терпеливо сдвинув брови, словно римский кардинал на проповеди молодого священника. Не знаю, много ли он понимал из моих слов, но однажды, когда я перечислил целую серию расчетов, связанных с ускорением падающих тел, деформационным давлением, случайными изменениями и свойством систем уменьшать свободную энергию, он вдруг зевнул и сказал: «Очень ценно. Но это объясняет лишь то, как вещи сталкиваются и разбегаются».
Конечно, это было именно так. Весь расчет, включая переменную времени, описывал медленную смерть Вселенной, момент между большим взрывом, породившим все сущее, и холодной массой, к состоянию которой все придет в конечном итоге. Но описание, которое предложил Алан, было механическим. Электрики редко думают математическими терминами. Алану всегда удавалось кое-как сдать экзамен по математике, зато электриком он был первоклассным. И не потому, что у него были какие-то особенные умственные способности. Просто для Алана гравитация, электричество и силы, которые генерируются в центрифуге или при зажигании спички, имели одну природу. Чтобы понимать это по-настоящему, нужен великий ум, всеобъемлющий, как разум Господа, если у Господа вообще есть разум.
Читать дальше
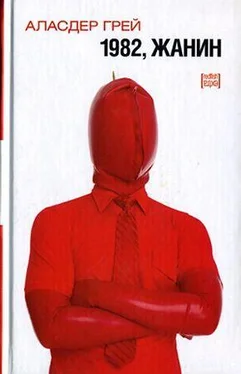
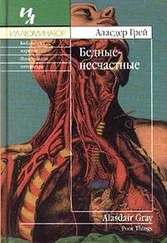

![Майкл Грей - Нити смерти [Компиляция]](/books/35103/majkl-grej-niti-smerti-kompilyaciya-thumb.webp)