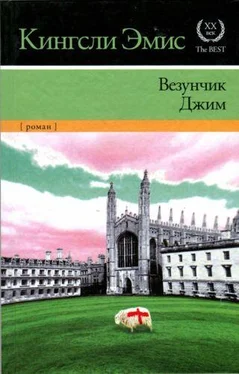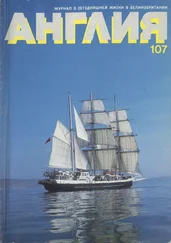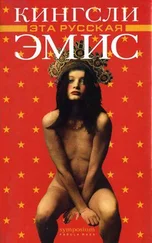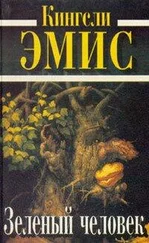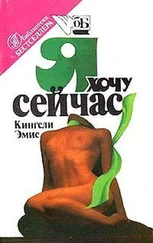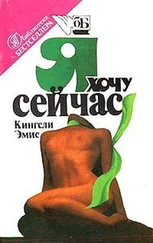По выходе из столбняка Диксон обнаружил, что прервал фразу на середине. Кусая губы, дал себе слово сосредоточиться. Откашлялся, нашел фразу и продолжал в быстром темпе, проговаривая согласные и не допуская спада интонации до последнего слога во фразе. По крайней мере каждое слово хорошо слышно, думал Диксон. Вторичное предчувствие катастрофы всего на несколько секунд опередило осознание, что теперь Диксон пародирует ректора.
Он поднял взгляд: на галерке веселились. В дверь стукнуло что-то тяжелое. Маконохи, подпиравший дверную раму, вышел, предположительно для проверки и наведения порядка. Голоса теперь раздавались и в самом зале; священнослужитель сказал что-то раскатистым басом. Бисли ерзал в кресле.
— Диксон, что с вами происходит? — шипел Уэлч.
— Простите, сэр… волнение, знаете ли… сейчас соберусь…
Вечер выдался душный; Диксон взмок как мышь. Дрожащей рукой налил воды из графина, залпом выпил. Его действие громко, но неразборчиво прокомментировали с галерки. Диксону казалось, еще секунда, и он расплачется. Может, вызвать Билла на обморок? Это будет нетрудно. Нет: все решат, что причина в алкоголе. Предпринял последнюю попытку взять себя в руки — пауза длилась полминуты, Диксон нарушил ее снова не своим голосом. Кажется, он вообще потерял способность говорить нормально. На сей раз он выбрал нарочито северный выговор, уповая на минимальную вероятность еще кого-нибудь спародировать. Галерка прыснула — и успокоилась, не иначе стараниями Маконохи. Целых несколько минут все было вполне пристойно. Диксон добрался до половины рукописи.
А потом пошло наперекосяк в третий раз. Теперь дело было не в словах и не в манере изложения, а в самом Диксоне. Не пьяным он себя чувствовал, а бесконечно несчастным, буквально убитым; чувство ворочалось, укладывалось в районе затылка. Диксон говорил, а тоска по Кристине давила на корень языка, повергала в элегическое молчание; на следующей фразе вопли ужаса хватали за горло, и Диксон едва сдерживался, чтобы не обнародовать свои соображения по поводу ситуации с Маргарет. Не успевал отпустить ужас, как ярость и досада заставляли губы занять позицию, подходящую для истерических обвинений в адрес Бертрана; миссис Уэлч; ректора; архивариуса; совета колледжа; колледжа в целом. Диксону стало наплевать на аудиторию; единственная слушательница, волновавшая его, ушла и возвращаться, по всей видимости, не собиралась. Ладно же; раз это последнее его публичное выступление, Диксон сделает все, чтобы запомниться. Пусть и возможности, и аудитория ограниченны, Диксон выжмет максимум. Довольно пародий, он слишком из-за них перетрясся; нет, теперь Диксон задействует интонации, конечно, в разумных пределах; посредством интонаций донесет свое отношение к предмету, покажет, чего на самом деле стоят тезисы, им излагаемые.
Постепенно — правда, отдельные участки мозга сигнализировали о недостаточной постепенности — Диксон стал подмешивать в интонации сарказм и горечь обиды. Только сумасшедший, подразумевалось его речью, воспримет всерьез хотя бы одну фразу из этих домыслов, из этой претенциозной, псевдонаучной, нагоняющей сон белиберды. Поразительно скоро Диксон взял тон нетипично фанатичного фашиста, которому доверено жечь книги и который вздумал озвучить толпе отрывок из памфлета, написанного образованным коммунистом-пацифистом еврейской национальности. Аудитория частью хихикала, частью выражала негодование; шум усиливался, но Диксон мысленно заткнул уши и продолжал читать. Почти бессознательно он усвоил неопределимый иностранный акцент, читал с нарастающей быстротой; голова кружилась. Уэлч сначала ерзал, потом стал шикать, наконец, заговорил в полный голос. Диксон был как во сне. Теперь каждую фразу он отмечал придушенным фырканьем. Он выплевывал слоги как проклятия; неправильные ударения, пропуски и спунеризмы оставлял без исправлений, страницы переворачивал, словно чтец партитур, который пытается угнаться за presto, тон повышал с каждым словом. Остался последний абзац; Диксон замолчал и поднял взгляд.
В глазах местных важных персон застыло ошеломленное несогласие. Профессора, доценты, старшие преподаватели смотрели с тем же выражением; младшие преподаватели не смотрели вовсе. Единственной персоной в зале (галерка не в счет), производящей звуки, был Гор-Эркарт, и звуки эти представляли собой визгливый смех. С галерки доносились крики, свист, аплодисменты. Диксон вскинул руку, призывая к тишине; никто не внял. Это было слишком; голова снова закружилась, Диксон поднес ладони к ушам. Тотчас общий гвалт перекрыл единичный звук, нечто среднее между стоном и ревом бизона. Это Аткинсон, не сумевший — или не пожелавший — с такого расстояния определить, чешет Диксон уши или прикрывает, растянулся в проходе. Ректор вскочил, принялся открывать и закрывать рот, никакого эффекта не добился и шепнул что-то члену совета графства. Вокруг Аткинсона засуетились, стали его поднимать. Аткинсон лежал бревном. Уэлч выкрикивал: «Диксон! Диксон!» К простертому Аткинсону устремились студенты с галерки — человек двадцать, если не тридцать. Мешая друг другу советами и указаниями, поволокли Аткинсона к двери. Диксон вышел из-за кафедры, и шум наконец прекратился.
Читать дальше