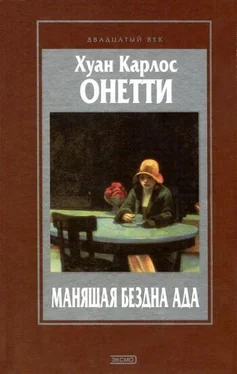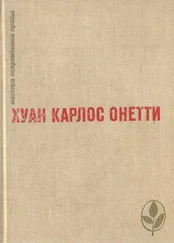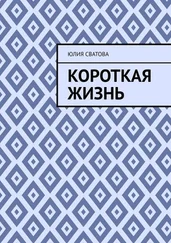Я встал и пошел в кухню. На полу у дверей лежал конверт, исписанный неуклюжими синими буквами. Там были и полное имя соседки моей, Кеки, и три буквы в обратном адресе, и какая-то улица в Кордове. В холодильнике стояло только вино. Я отхлебнул и вернулся к себе, не вскрывая конверта, и повертел его перед лампой, зная, что не вскрою — зачем читать чужое письмо.
Ручку я не взял. Я думал о соседке, о ее полузабытом профиле, голосе, смехе, обо всем, что я про нее знал. Когда кончится ночь, когда я встану, покорно признав, что проиграл, что мне не спастись, потому что я не создал шкуры для врача из Санта-Марии и не влез в нее сам; в какую-то из последних минут этой ночи, когда, чтобы удержать тьму, придется закрыть балкон и опустить жалюзи, говоря какие-то ночные слова, Кека, Энрикета, вернется, напевая, одна или в сопровождении мужских шагов. Она вернется из гостей или с вечеринки, усталая, подвыпившая, и будет напевать, раздеваясь. Близко, рядом с моими ушами, она обнажит горячее тело, покрывшееся потом еще тогда, когда она танцевала — кружево, подвязки, застежки, — и оркестр внезапно замолчал на проигрывателе.
Я вышел на площадку и сунул письмо ей под дверь. «Все, теперь все», — повторял я и еще не верил.
Кека разбудила меня рано, заливисто смеясь в трубку. Рассказывала она про каких-то двух мужчин и машину, бутылку вина, озеро, лес, снова про двух мужчин, маскировавших наглостью неуверенность и робость. Машина остановилась под тяжкими ветвями, в благоухании цветов, и банальную тишину пейзажа огласил стук дверцы.
Я слышал, как она легла, погасила свет и, быстро бормоча, стряхнула с себя прегрешения прошедшей ночи. Тогда я улыбнулся и переступил границу, за которой была скорбь, огромная, бесконечная, словно выросшая, пока я спал и соседка моя рассказывала в трубку свою недлинную повесть. Сценария я написать не мог; может быть, мне никогда не спастись, начертав длинную фразу, призванную меня оживить. Но если не бороться с этой нежданно совершенной скорбью; если отдаться на ее волю и, не уставая, ощущать, что ты скорбишь; если каждое утро смиряться с тем, что она хлынет на меня из угла, из упавшего платья, из жалобного голоса Гертруды; если любить эту скорбь, и холить, и обретать каждый день, жаждать ее, алкать, пропитывая ею каждый взгляд и каждый звук, тогда, конечно, меня минуют и бунт, и отчаяние.
Я окутал скорбью крупную, ладную Гертруду, которая, скрывая беду, поднимется ко мне на лифте часов в восемь, и закрыл глаза в редеющей тьме, чтобы увидеть, как около полудня на севере, у реки, в приемной врача по имени Диас Грей, сидит толстая женщина с ребенком на руках, обиженно поджав губы. Хилый столик с вазочкой и кипой журналов отделял ее от женщины худой и высокой, белокурой, гладко причесанной, которая рассматривала ногти, сдерживая усмешку. Я видел, как белокурая зевнула, и улыбнулась (теперь она была одна, а из кабинета доносился детский плач и материнские окрики), и стала разглядывать не то с любопытством, не то с легкой брезгливостью пустую вазочку, цветное стекло дверей, лестницу и бронзовые перила. Потом, когда толстая вышла, таща ребенка за руку, и запах мыла смешался с неприятным духом вещей и тусклым светом, сам я, в непомерно длинном, криво застегнутом халате, открыл двери, и незнакомка вошла, коснувшись меня бедром, и на середине ковра остановилась, и стала спокойно оглядывать мою мебель, мои книги, мои инструменты.
Я открыл дверь, впустил ее и, вовремя обернувшись, увидел, что она уже вошла, заранее потешаясь и вымещая свою иронию на столе, стульях и даже полуденном свете, лившемся из окна.
— Простите, я сейчас. Вы присядьте, — сказал я, не глядя на нее, и склонился над столом, чтобы записать в книгу, кто ко мне пришел и сколько платит; потом Диас Грей, доктор, спокойно подошел к женщине, не пожелавшей присесть.
— Прошу… — устало и холодно сказал он.
Она беспардонно ухмылялась, ища его взгляда, смотрела на него сверху вниз. На ней был белый костюм. Она не носила, должно быть, ни сумки, ни шляпы, и светлые волосы, отливавшие золотом в ярком свете, закручивала на затылке.
— Я остановилась тут, рядом, — сказала женщина. Говорила она бесстрастно, немного быстро, немного тихо от старой привычки к вежливости. — Наверное, я права, что пришла… Только вы надо мной не смейтесь.
Такое вступление заинтересовало врача. Он вгляделся в расширенные зрачки и решил, что пациентка лжет, что она для того и явилась, чтобы полгать.
Читать дальше