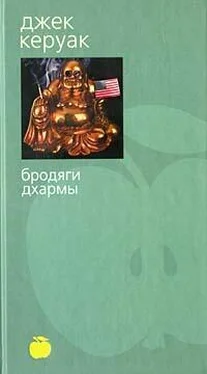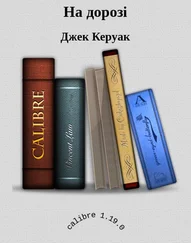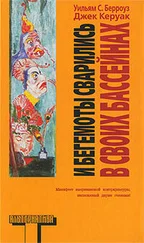Собаки медитировали стоя. Никто из нас не издавал ни звука. Вся эта лунная местность была морозно молчалива, нигде не потрескивали веточками ни кролики, ни еноты. Абсолютная, холодная, благословенная тишина. Может, только в пяти милях к Сэнди-Кроссу лаяла собака. Лишь слабенький, еле слышный звук больших грузовиков, катящихся в ночи по 301-му, милях в двенадцати отсюда, да, конечно же, время от времени — дальнее блеянье дизелей пассажирских и грузовых составов Атлантической Береговой линии, идущих на север и на юг — в Нью-Йорк и Флориду. Благословенная ночь. Я сразу же погрузился в пустой бездумный транс, в котором мне вновь было явлено: «Это мышление остановилось,» — и я вздохнул, поскольку мне больше не нужно было думать, и я ощущал, как мое тело тонет в благословенности, которой нельзя не поверить, совершенно успокоенный, примиренный со всем эфемерным царством сна, сновидца и самого сновидения. И еще — всевозможные мысли, вроде: «Один человек, практикующий доброту в глуши, стоит всех храмов, воздвигнутых этим миром,» — и я протянул руку и погладил старину Боба, который довольно посмотрел на меня. Все живущие и умирающие, вроде этих вот собак и меня, приходят и уходят без всякой длительности или само-субстанции, о Боже, — и значит, нам невозможно существовать. Как странно, как достойно, как хорошо для нас! Вот был бы ужас, если бы мир оказался реален, потому что если б мир был реален, он был бы бессмертен. Мое нейлоновое пончо защищало меня от холода, как хорошо подогнанная палатка, и я долго сидел, скрестив ноги, в зимнем полночном лесу — около часа. Затем вернулся домой, согрелся у огня в гостиной, пока остальные спали, скользнул в свой спальник на задней веранде и крепко уснул.
На следующую ночь был Сочельник, и я провел его с бутылкой вина перед телевизором: с удовольствием смотрел все шоу и полночную мессу из Собора Святого Патрика в Нью-Йорке — там служили епископы, блистали догмы, паства, священники в своих белоснежных кружевных облачениях перед громадными официальными алтарями — не стоившими и половины моей соломенной подстилки под сосной, как я считал. Потом, уже в полночь, маленькие родители — моя сестра с мужем, — затаив дыхание, раскладывали подарки под елкой — гораздо более славные, чем вся «Слава в Вышних Богу» Римской Церкви и всех ее прислужников-епископов. Ибо в конце концов, — думал я, — Августин был черномазым, а Франциск — мой недоразвитый брат. Кот Дэйви внезапно благословил меня, милая киска, прыгнув мне на колени. Я вытащил Библию и немного почитал Святого Павла у теплой печки при свете елочных огней: «Пусть станет невеждой, чтобы стать мудрецом,» — и подумал о дорогом добром Джафи, и пожалел, что он не наслаждается этой новогодних ночью со мною вместе. «Уже наполнены вы, — говорил Святой Павел, — уже стали богатыми. Святые будут судить мир.» Затем, всплеском прекрасной поэзии, прекраснее, чем все поэтические вечера сан-францисских Возрождений Времени: «Мяса для желудка, а желудок — для мяс; но Господь сведет к ничто и его, и их».
Ага, — подумал я, — платишь собственным носом за преходящие зрелища…
Всю неделю я был дома один: мать уехала в Нью-Йорк на похороны, остальные домашние работали. Каждый день я уходил в сосновые леса со своими собаками, читал, учился, медитировал под теплым зимним южным солнышком, потом возвращался и в сумерках готовил для всех ужин. Кроме этого, я приколотил корзину и каждый вечер играл в баскетбол. По ночам, когда все ложились спать, я снова отправлялся в леса под светом звезд, а иногда — и под дождем со своим пончо. Леса принимали меня хорошо. Я развлекался тем, что сочинял крохотные стихотворения в духе Эмили Дикинсон: «Зажги свечу, ответь лжецу; к чему старанье и существованье?» — или: «Семя арбуза желанье разбудит, сочно нахлынет — вот тирания».
Пускай будет оттяг и блаженство навеки, — молился я в лесах по ночам. Я придумывал все новые и лучшие молитвы. И новые стихи, вроде тех, когда выпал снег: «Нечастый снег святой, в ненастье поклон живой,» — а однажды записал «Четыре неизбежности: 1. Заплесневевшие Книги, 2. Неинтересная Природа, 3. Скучное Существование, 4. Пустая Нирвана — ничего не попишешь, парень». Или скучными днями, когда ни буддизм, ни поэзия, ни вино, ни одиночество, ни баскетбол не приносили пользы моей ленивой, но старательной плоти, писал: «Нечего делать: практически хоть подыхай с тоски». Как-то днем я наблюдал за утками на выгоне через дорогу, а это было воскресенье, и громогласные проповедники орали по каролинскому радио, и я написал: «Представь себе благословение всех живущих и умирающих червей в вечности и уток, которые ими питаются… и вот тебе вся проповедь воскресной школы». Во сне я услышал слова: «Боль — это лишь выдох наложницы». Но у Шекспира было бы так: «Да, в моей вере этот мерзлый звук». Потом как-то вечером, после ужина, я мерял шагами продуваемую ветром холодную тьму двора, как вдруг ощутил невероятное уныние, бросился наземь и вскричал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу