Курить в портняжной мастерской среди обилия тканей он не мог, тем более что руки у него были заняты работой, а губами во время примерок он держал булавки, поэтому отсутствие сигарет компенсировал леденцами. Он сосал их с неподвижным лицом, сосредоточенно следя за иголкой, и слышно было только, как он сглатывает слюну. При этом он утрачивал тот вызывающе надменный вид, который придавала ему зажатая в зубах сигарета, и в его раскосых глазах проступало даже что-то отдаленно напоминающее смирение.
Здесь, у нас, после обеда он отправлялся на чердак. Время от времени оттуда доносились звуки, по которым мы угадывали, что он передвинул стол или стул, что произошел обвал, разбился стакан, — и слегка тревожились, но чаще всего мы прислушивались напрасно: может, он просто спал. Бабушка волновалась: да что же он там делает? Она опасалась, как бы в нашей немыслимой свалке он снова не отыскал какой-нибудь остров Леванта. Мы умирали от любопытства, но заходить на чердак воспрещалось. Нет, ничего такого он не говорил в открытую, но кому же в голову придет беспокоить деда, когда он занят. Его молчание, его манера смотреть, не видя, полуприкрытые окутанные сигаретным дымом глаза — все это создавало вокруг него некую защитную зону, нарушаемую только с его позволения. Он спускался за час до ужина с паутиной в волосах и в пропыленном пиджаке, тщательно чистился, разглаживал ногтями складку на брюках (бабушка напрасно уговаривала его надевать на чердак что-нибудь более подходящее) и заставлял нас вместе с ним идти мыть руки.
Однажды за ужином бабушка собралась с духом и поинтересовалась, что он делает наверху. Прямо он на вопрос не ответил, но спросил у мамы, известно ли ей что-нибудь о Коммерси. Мама только подняла голову, изумившись, что кто-то пытается разговаривать с заживо умершими. Дед настаивать не стал. Но как-то в воскресенье через разделявшую участки лавровую изгородь обратился с тем же вопросом к Матильде. Та замахала рукой, будто стирая в пространстве нечто, о чем не хотела и слышать.
Тут как раз умерла тетушка. Она ушла от нас девятнадцатого марта, на святого Иосифа (или Жозефа), словно бы в своем бессознательном путешествии тщательно пролистывала календарь, выбирая число, подходящее для воссоединения с недавно скончавшимся племянником и давным-давно почившим братом.
В день похорон дул адский ветер. Он задирал стихари с не меньшей яростью, чем женские юбки. Несколько служек с трудом удерживали длинное древко хоругви с серебряной бахромой; истерзанная шквальными порывами, она закручивалась, надувалась и норовила оторваться. Тот, что шел впереди процессии, держал бронзовый крест перед собой, точно воин алебарду. Кюре Бидо шарфом повязал вокруг шеи вырывавшуюся из рук епитрахиль. Она развевалась у него за спиной, посверкивая золотыми блестками. Ветер листал страницы молитвенника быстрее, чем он их читал. Испугавшись, что тонкая бумага не выдержит, он закрыл требник и стал импровизировать. Он надсаживал глотку, но ледяные оплеухи уносили слова песнопений вдоль по дороге на Париж раньше, чем мы успевали их подхватить хором. Мальчишка, державший святую воду, расплескал по пути добрую половину драгоценной жидкости себе на платье. Когда дошло дело до окропления, пришлось довольствоваться остатками и макать кропило в пустой сосуд. Вой ветра заглушал звук шагов, мы продвигались, опустив голову, задыхаясь, ориентируясь на спину впереди идущего, беспокоясь более всего о том, как бы не улететь. Бабушка и мама сняли вуалетки, дед крепко держал шляпу рукой, кто-то догонял свой берет или косынку. Катафалк, который тянули лошади месье Билоша, раскачивался с боку на бок, черные драпировки хлопали и вздымались, как стая воронья над телом. На крутом повороте к кладбищу катафалк чуть не опрокинулся (это было его последнее путешествие — его сменил автомобиль). Билош-младший счел, что дальнейшее продвижение небезопасно для покойника. Он выбрал трех мужчин покрепче, вместе они подхватили гроб, вытащили его из-под балдахина, переглянулись и дружно, могучим движением взвалили на плечи, с изумлением обнаружив, что ноша совсем не тяжела. Сила рывка оказалась несоразмерной весу гроба: они чуть было не подкинули его в воздух, как подкидывают друг друга на простынях пожарные во время праздника. В ее последнюю обитель нашу Марию, как царицу, мужчины внесли на руках; плотно прижатая к щекам носильщиков, она, возможно, перекатывалась в слишком просторном для нее сундуке и душой краснела оттого, что такие прекрасные мужи склонили головы перед ее неприметной женственностью.
Читать дальше
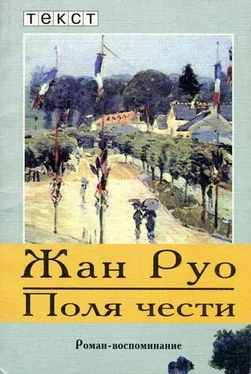

![Жан Ануй - Томас Бекет [=Бекет, или Честь Божья]](/books/78196/zhan-anuj-tomas-beket-beket-ili-chest-bozhya-thumb.webp)
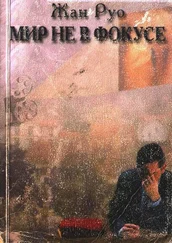
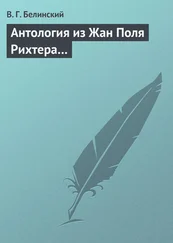





![Кирилл Корзун - Клинок чести [= Зов чести] [litres]](/books/393419/kirill-korzun-klinok-chesti-zov-chesti-litres-thumb.webp)

