– Вот рыбалку организую, и займемся, – сказал Рулев.
– А кто ее будет ставить?
– Из Столбов. По имени Мельпомен, – сказал Рулев.
– Мельпомен–то! Который праведник? – Саяпин хохотнул.
– Что, дело не знает?
– Мельпомен? Дело знает, Только он праведник. А с праведника какая работа? – Саяпин еще раз хохотнул, и вот тогда–то он и повернулся к нам широкой спиной, зашагал к чуму.
Все сплеталось, как в детективе. Среди тысячекилометровых пространств действовали знакомые, чем–то связанные между собой люди. Мельпомен, Саяпин, сельскохозяйственный кит Лажников, последний единоличник Кеулькай. Связи эти казались мне странными, может быть, был в них даже элемент уголовщины. Но это уже не мое дело.
Мы заехали на Константинову заимку и забрали там Поручика и Северьяна. Свой «кубаж» они выполнили, и надо было до распутицы вывезти лес. И тот и другой казались одичавшими от сна, загара и грязи.
* * *
В начале мая, как положено, ударили холода, и с северо–запада, из «гнилого угла», пришла пурга. После солнечного апреля она казалась особенно постылой, ненужной. Душа и тело просили лета, тепла. И особенно диким это казалось потому, что уже пришел полярный день, в два часа ночи можно было читать у окна, а за окном свистел ветер, белые струи поземки неслись черт знает куда, и днем и ночью на улицах ни души – все попрятались по домам, и лишь ветер рвал из труб, швырял на землю струи дыма. Тоска!
Рулев, сидя ко мне спиной, писал какую–то хитрую бумагу – может, докладную о развитии совхоза, может, соображения о привлечении всесибирских бичей к нормальному образу жизни, черт его знает. Бумагу, уходя, он клал в стол, стол запирал, а ключ уносил. Уходил он только на радиостанцию. Толя Шпиц оказался не то что великим радистом, но все–таки профессионалом, и рацию он установил, один раз даже связался с райцентром, за тысячу километров от нас по прямой. Я стучал на своей «Колибри» конспект диссертации. Печка горела без передыха, на плите плевался кипятком чайник, а на краешке плиты вздыхала в консервной банке вязкой густоты заварка. Жизнь!
В одну из этих белых ночей нас разбудил стук в дверь. Кто–то кричал и ломился. Рулев сунул ноги в валенки и вышел в сени в одних трусах. Трусы Рулев носил по армейской привычке длинные, как сейчас называют «семейные», и, помню, я спросонок усмехнулся, глядя па тощую рулевскую спину, тощие ноги его в этих трусах и валенках.
Ввалился засыпанный снегом Мишка–плотник.
– Беда! – сказал он. – Лошак!
– Где? – Рулев уже натягивал штаны.
– Я его на горбу доволок. У вашей завалинки и лежит.
Они с Рулевым вышли и втащили Лошака, как носят труп – за руки и ноги. Но Лошак не был трупом, он стонал. По комнате густо пошел запах спиртного.
– Дуй за Кляушкиным, – приказал Рулев и стал раздевать Лошака. Я слез с койки и, стараясь не дышать, стал помогать ему. Мы стащили мокрые валенки, точнее, они были не мокрые, а замерзшие – где–то Лошак угодил в воду. Рукавиц на Лошаке не было, я видел белые, как хорошая бумага, кисти, и, когда мы переворачивали его, они стукали о пол как деревянные.
– Таз со снегом, – приказал Рулев.
Когда я принес снег, Лошак уже голый лежал на кровати, на живот ему был брошен полушубок, и Рулев растирал снегом ноги его, а мне предложил растирать руки. Руки были твердые, как железо. Появился Кляушкин с чемоданом. Он отстранил Рулева, быстро осмотрел Лошака и констатировал: «Пьяный».
– Я его у ключа подобрал. Услышал – кто–то воет. Собака ли, человек ли. Пошел и вижу – Лошак. Лежит и воет, – сказал Мишка–плотник.
Кляушкин осмотрел руки–ноги и сказал Рулеву:
– Санрейс надо требовать. Срочно.
Рулев ушел. Кляушкин посадил Мишку тереть кисти рук Лошака, а меня приспособил таять воду. Сам он тер ноги. Лошак начал выть. Кляушкин послушал сердце и налил полстакана спирта. Лошака вытошнило, и тут я уж выбежал на улицу, и меня тоже стошнило.
Кляушкин невозмутимо тер и тер белые ступни, Мишка – руки, и Лошак уже не выл, а тихо стонал и бормотал какую–то ерунду.
– Удачно! – сказал, вернувшись, Рулев. – Там какой–то всепогодный пилот объявился. Вылетает. В больницу, что ли, его?
– В больницу его нельзя. Таскать туда–сюда незачем, – сказал Кляушкин. – Будем ждать здесь.
Тянулось это часов шесть. Я слонялся по улице, чтобы не торчать в доме, где пахло перегаром, блевотиной и где молчаливый неутомимый Кляушкин обрабатывал беспамятного Лошака. И снова я уходил. И снова я приходил.
Читать дальше
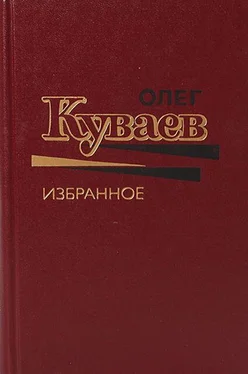








![Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/398597/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame-thumb.webp)
