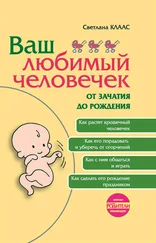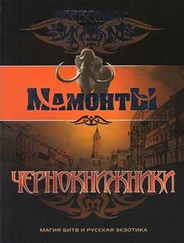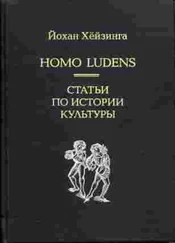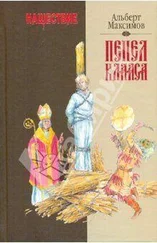4. И шлюхи, и книги с незапамятных пор любят друг друга, и любовь эта несчастна.
5. И у каждой шлюхи, и у каждой книги — всегда определенный тип мужчины или читателя, с которыми и те, и другие живут и над которыми измываются. Для случая с книгами это критики.
6. Для шлюх — публичные дома, для книг — общественные библиотеки. Куда еще пойти бедному студенту?
7. И книги, и шлюхи всегда исчезают до своего физического конца.
8. И книги, и шлюхи — неутомимые рассказчицы о том, как они такими стали. На самом деле они даже не всегда это и сами замечают. Годами они готовы отдаться каждому «из любви», и в один прекрасный день в образе пышнотелой дамы оказываются на панели, хотя бы «из спортивного интереса».
9. И книги, и шлюхи охотно повернутся к вам и спиной, если желают показать себя во всей красе.
10. И книги, и шлюхи в молодости способны на многое.
11. И книги, и шлюхи — «в старости ханжа, в молодости потаскуха».
12. Сколько же книг, в свое время снискавших дурную славу, ныне служат молодому поколению учебниками!
13. И книги, и шлюхи — для одних сноски то же самое, что деньги за краем чулка.
«Библиомания — любовница женатого книжного червя» — так оправдывается другой.
В чем другом совратительная сила книги, как не в красивых глазах текста? И кто прежде всего строит глазки, как не заглавие? «Эффектное название — сутенер книги». Это я где-то вычитал. И мотающийся во имя науки с конгресса на конгресс итальянец дополняет: «Задача названия — не упорядочивать идеи, а вносить в них неразбериху».
Стало быть, существует текстовый сластолюбец? «Ну, такой антигерой существует: тот, кто читает текст в момент, когда испытывает удовольствие. Библейский миф перевернут с ног на голову, многоголосие языков уже не кара, субъект достигает сладострастного ощущения посредством совокупления языков, действующих бок о бок: текст удовольствия есть райский Вавилон. Любой засвидетельствует, что получаемое от текста удовольствие вещь ненадежная: никто не возьмется утверждать, что прочитанный повторно текст доставит нам удовольствие; это зыбкое, хрупкое, подверженное влиянию настроений, привычек, обстоятельств удовольствие, удовольствие затрудненное (достигается через молитвенное обращение к ЖЕЛАНИЮ с тем, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, и упомянутое ЖЕЛАНИЕ вполне может оставить это обращение без ответа.) Сладострастное ощущение, получаемое от текста, не есть затрудненное, оно куда хуже, это praecox , преждевременное семяизвержение, которое всегда некстати и от зрелости не зависит. Все происходит разом. Все удовольствия выпадают на момент первого взгляда.
Мне предлагают прочесть текст. Текст этот навевает на меня скуку. Можно и так выразиться: текст забалтывает меня. И это забалтывание — та самая пустопорожняя пена, возникающая как результат абстрактного писательского зуда. Здесь приходится иметь дело не с перверсией, а с желанием. Сочиняя этот текст, его автор призывает на помощь младенческий язык: императивный, автоматический, без малейшего оттенка любви, эдакий гвалт причмокиваний (специфических фонем сосания, помещенных одним удивительным иезуитом ван Гиннекеном где-то между письменной и устной речью), сосательных манипуляций без объекта сосания, недифференцированной устности, отличной от той, что вызывает гастрономические и языковые удовольствия. Вы просите меня прочесть вам, но я для вас ни больше ни меньше как тот, к кому вы обращаетесь с просьбой, у меня нет лица (в самом крайнем случае это лицо МАТЕРИ): я для вас не живой организм и не предмет (и мне тоже безразлично — не душа во мне алкает признания), а лишь поле, некий сосуд для растягивания его. Короче, можно сказать, вы написали этот текст безо всякого сладострастного ощущения, и текстовая болтовня по сути своей фригидна, как и любая потребность до тех пор, пока не переродится в жажду, в невроз».
Такое мог настрочить лишь француз периода постмодернизма.
Все рано или поздно умирают, но книги — есть слава Божья, поэтому их надлежит сохранять.
Дон Винченте
Картина 1
1810 год. Душный и знойный летний день. В почтовой карете, направляющейся из Вайсенфельса в Лейпциг, сидят двое. Молодой, крепкого вида скототорговец перемещает свое вялое и размякшее от жары тело по Саксонии. В его растянувшихся штанах до колен скапливается зной. На каждой колдобине обнажается широкий пояс, открывая взору на пару мгновений туго набитый кошель. Напротив в строгого покроя костюме для верховой езды сидит мужчина средних лет с бородкой и в очках. Все латунные пуговицы аккуратно застегнуты. Скототорговцу стоит лишь взглянуть на него, как его изрытая шрамами мясистая физиономия покрывается потом. Рука его попутчика неторопливо опускается в левый карман и извлекает оттуда серебряную табакерку. Жадно вдохнув предложенную ему щепотку, скототорговец оживает, его безучастный взор обретает подвижность и умиротворенность. Разговор не поспевает за колесами экипажа, жара на самом деле невыносима. Пассажир укладывается на бочок. Перед этим просит еще нюхнуть, дескать, взбодриться. Втянув в себя солидную дозу зелья, скототорговец окончательно обмяк. И на конечной станции почтари с величайшим трудом будят его. Кошель исчез. (Разумеется. А чего еще вы ожидали?)
Читать дальше