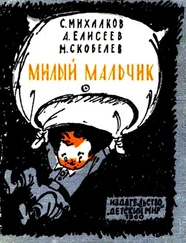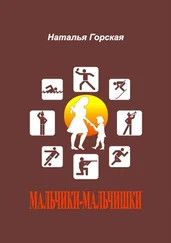— Нет, теперь дай полежать спокойно.
— Можно мне с собой-то поиграть?
— Это пожалуйста.
— Может, ты решишь, что я рехнулся, что спрашиваю такие вещи, но раньше, если я, лежа в постели с каким-нибудь молодчиком, начинал от восторга орудовать своей штуковиной, он, бывало, из себя выходил: «А ну, давай шмотки собирай», — эдак со злобой, и все такое. Наверно, им казалось, что я их в чем-то обделил или нечто в этом роде. Любовь — сложная штука. Ты правда не сердишься, когда я жадно тормошу свою штуковину, глядя на тебя? Одобряешь? Я тебя не трогаю — но смотреть смотрю: я не могу иначе. Знаешь, какой он у тебя красивый, жестокий и бесстыдный? Их у тебя с трудом можно назвать «заветными местечками». А знаешь почему? Потому что завершающий штрих был нанесен, когда вся статуя была уже готова. Создатель хотел сотворить нечто невообразимо прекрасное. Вот он и решил: я отложу-ка я самое красивое, самое важное и потому самое трудное на потом. На всякий случай он оставил спереди большой каменный выступ. Неделями, месяцами вытесывал он, зачищал и полировал твои холмики. Никаких недоделок. И вот, когда почти все было готово, из этого огромного и еще необработанного куска камня, торчащего под твоим бархатным, матово поблескивающим мужским животом и над твоими бесподобными, покрытыми светлым пухом ногами всадника он вырезал последнее, единственное, вечное доказательство твоего юного мужского естества. И возгордился своей работой. Она и без того казалась безупречной, эта скульптура, но он хотел довести ее до такого совершенства, как ни одну статую допрежь. И подумал он: столь выдающимся сотворю я триединство сие, что во многих станет оно пробуждать зависть любострастную, но сделаю так, что творению сему безупречну и неоспориму бысть: и се, милостью Божией, будет оно пробуждать недовольство непомерное, однако недоказуемое. И так оно и вышло, Мышонок. Какие бы брюки ты не надел, я глаз отвести не могу. Никто не может от тебя глаз оторвать, и желает пасть пред тобой на колени и приводить тебе мальчишек, разных мальчишек, цветных тоже, и того черного красавчика, — кстати, знавал я его — который прежде безнаказанно портил белых ребят и парней.
— О Боже, меня снова разбирает. Это что, действительно правда?
— Ты о черном, об этом негритосе? Да, это правда.
— Да нет, я про скульптуру. Как это все у меня там устроено. Ты что, серьезно?
— Ну да. Конечно, Мышонок, Сир, Ваше Величество, молодой король. Я говорю только то, что думаю. Да я в жизни ничего не сочинил. Ты что, сам не видишь? Тот, кто тебя слепил, был великий художник. Я ничего не понимаю в скульптуре, но тут — снимаю шляпу.
— Перед Великим Творцом Всего Сущего?
— Ну, вообще да. Никто другой с этим бы не справился. Впрочем, если позволишь, небольшое замечание по поводу твоего туалета. Так, мелочь, не подумай чего. С утра я не решаюсь тебе этого сказать — побаиваюсь, такие ты вечно зверские рожи корчишь.
— Ну что там еще?
— Да этот ремень, широкий кожаный ремень, ты почти всегда носишь его со своими ярко-красными вельветовыми брюками — такой широкий, с тиснеными фигурками, волнами и завитушками — ну, этот ремень…
— Ну и что в нем такого?
— Широковат он для тебя, да и грубоват. А ведь ты так красив, так гибок, так изящен… Тебе бы надо поуже ремешок носить, потемнее и безо всяких там прибамбасов. А этот — для крепко сбитых широкозадых юнцов. Тебе он не идет, он тебя оскорбляет, этот ремень. Он вульгарен, он хорош только для жуткорожих молодчиков, потрошителей кур — охота им принарядиться к вечеру, вот они и напяливают на свои еще молодые, но уже обрюзгшие тела пестрые, скверно подобранные по цвету тряпки, от которых к тому же пованивает какой-то кислятиной. Не носи ты его больше: он не не то что для рыцаря не годится, его и оруженосец не наденет. Уж ты поверь мне.
— Господи! Да никогда в жизни! Никогда.
— Ну и хорошо. Ну что, дальше рассказывать? Про капитана в каюте? Или про машину?
— Нет. Давай про машину.
— А будешь ты с ней осторожно обращаться? Ты хоть знаешь, сколько такая штука стоит? 26 тысяч гульденов. Слыхал? Простой человек столько за два года не заработает, а на тебя она за так свалилась: машина за 26 тысяч! И ведь еще будешь ныть и канючить типа «датыменясовсемнелюбишь». Кабы не любил — дождался бы ты от меня машины за 26 тысяч монет! Я повторяю, двадцать шесть тысяч гульденов. Ты вот дружков своих поспрашивай…
— Всех-всех-всех?
— Попридержи язык, не то схлопочешь двадцать шесть ударов ротангом для мальчиков. Вот я тебе говорю: спроси своих дружков, спроси у них: «Есть у тебя друг?» — «Ну а как же». — «Ах, вот как? А этот друг тебе 26 тыщ гульдей на машину отстегнет?» — «Ты что, издеваешься? Да он заездил меня совсем, сам со мной вовсю оттягивается, пользуется мной, когда ему пар из своего заросшего накипью чайника выпустить надо, а мне за это — пачку курева или билет в кино; да вот еще на Рождество зажигалку мне сунул, дрянь какую-то австрийскую. И дня моего рождения он не помнит, а попробуй я про его именины забудь! Взял я у него как-то рубашку — нет, не в подарок, так — поносить; прикинь, такого наслушался, когда отдавал!» — Такова жизнь, Мышонок, но ты на это глаза закрываешь. Ты на всем готовеньком живешь.
Читать дальше