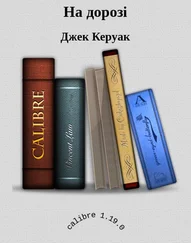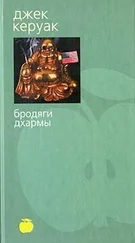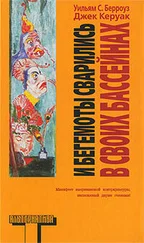И вот я — играю в свой бейсбол на дворе в грязи, рисую камнем круг посредине, вот 3-я, вот для шортстопа, 2-я база, первая, вот для позиций на аутфилде, и подаю мяч маленьким самообращенным щелчком, тяжелый мячеподшипник, бита — здоровенный гвоздь, ххап, низкий мяч между камнем 3-й и ш-с, удар в базу ушел налево, поскольку не прокатился по кругам инфилда — вот летящий влево, плюхается в круг левого поля, он в ауте, я это сыграл и послал такой длинный хоумран, что непостижимо, прежде ромб, что я рисовал на земле, и игра, в которую я играл, были синонимами обычных расстояний и значений мощности в бейсболе, как вдруг я бью этот невероятный хоумран тонким концом гвоздя и загоняю мяч, который был моим чемпионом великой гонки Отвращение на $1.000.000 в своей жизни-зимой-в-спальне, а тут весна, цветочки в центре поля, Димаджио [57] Джозеф Пол Димаджио (1914–1999) — американский бейсболист высшей лига, центрфилдер.
смотрит, как растут мои яблочки, — он проплывает поперек всего мешающего стадиона, или двора, в истинно пригороды мифическою города, засекая мифическое игровое поле, — во двор дома по Фиби-стрит, где мы раньше жили, — потерялся там в кустах — я потерял свой мяч, свое Отвращение, вся лига завершилась (и Скаковой Круг лишился своего Царя), пробит зловещий концесветный хоумран.
Я всегда считал, будто нечто таинственное и окутанное саваном и предзнаменованное было в этом событии, которое положило конец детской игре, — от него мои глаза устали — «Просыпайся, Джек, — выдь навстречу жуткому миру черноты без своих аэропланных баллонов в руке». — За громыхающими яблоками моей земли, и его оградой, что так дрожит, и зима на бледном горизонте осени вся убелена сединами от собственных вестей в большеварежковом комиксе от редакции о запасании угля на зиму (Темы Депрессии, нынче это лари от атомной бомбы в подвалах, наркоманская сеть коммунистов) — огроменный прикол, от которого тошнит у тебя в газетах, — за зимой звезда моя поет, зовет звоном, мне неплохо в отцовском доме. Но рок грянул выстрелом, когда грянул, как и гласило предвестие и как подразумевалось смехом Доктора Сакса, когда он скользит меж грязей, где потерялся мой подшипник, мартовской полуночью, что частично совпадает с ослепительным сверком, безумным от ее окровавленных солнечных пейзажей в комплекте с железной грущеткой в сумерках, называемых туманами, через болотистые топосъемки — Сакс там шагает беззвучно по яблоневой листве в его таинственной грезоныряющей ночи —
Когда сладкою ночью я сгребаю всех моих котят, моего котика, подбираю вверх одеяло, он проскальзывает, делает ровно три оборота, хлоп, мотор работает, готов спать всю ночь, пока Ма не разбудит утром в школу — на дикую овсянку и тост по парующим осенним утрам — ибо туманы, мерцающие ввысь изо рта Джи-Джея, пока он встречает меня в углу: «Хысспади, вот холод — то! — клятая зима припердела своей жопищей с Севера, не успели летние дамульки собрать зонтики и свалить».
— Доктор Сакс, не вихри мне саванов — раскрой свое сердце и поговори со мной — в те дни он бывал молчалив, сардоничен, хохотал в высокой тьме.
Теперь я слышу, как он вопит с ложа края — «Змей Восстает по Дюйму в Минуту, дабы изничтожить нас, — а ты сидишь, ты сидишь, ты сидишь. Аиииии, ужасы Востока — никаких не делай причудливых возрезов на стену Тибета, чем мулоухий двоюродный брал Кенгуру — Фрезели! Граумы! Проснись испытанью в своих тростниках — Змей это Грязный Убивец — Змей это Нож в Сейфе — Змей это Ужас — лишь птички хороши — убийственные птицы хороши, убийственные змеи — не хороши».
Маленький бубличек смеется, играет на улице, понятия не имеет — Однако папа же предупреждал меня много лет, это грязная змейская сделка с хитрым имечком — называется Ж-И-З-Н-Ь — хотя скорее Ф-У-Ф-Л-О… Как же и впрямь прогнивают стены жизни — как рушится балка сухожилья…
КНИГА ВТОРАЯ
Угрюмая книгофильма
СЦЕНА 1. Два часа — странно — гром и желтые стены маминой кухни с зелеными электрическими часами, посередине круглый стол, плита, огромная чугунная печка двадцатых, теперь на нее только ставят, рядом с современной зеленой газовой плитой тридцатых, на которой были горячи столько сочных ед и слоистых громадных нежных яблочных пирогов, уиии — (дом на Саре-авеню).
СЦЕНА 2. Я у окна в гостиной смотрю на Сару-авеню и ее белые пески, что каплют в душе, из толстой жаркой чесучей мягкой мебели, огромной и медведеподобной, по той причине, что ее тогда такой любили, а теперь зовут «пухлой», — гляжу на Сару-авеню сквозь кружевные занавески и обисеренные окна, в темном сумраке у обширной черноты квадратноспинного фортепиано, и темных кресел, и утробной софы, и коричневой картины на стене, изображающей ангелов, играющих вокруг бурой Девы Марии и Младенца в Бурой Вечности Бурых Святых —
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу