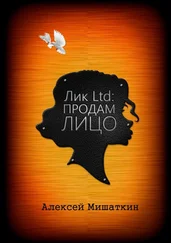—
И вдруг репродуктор: «Такого-то к Вячеславу Михайловичу, к Молотову!» Я хватаю папочку,— (Отступление о папочках, о тесемочках, за- стежечках, цвете и размере; важности папочек вообще, а его в особенности),— все на меня смотрят: кто таков? К Молотову?! К самому Молотову! Приятно. У-у-у, как приятно! Видела бы жена! Вводят в кабинет.— (Длиннющее описание всех предметов, находящихся в кабинете.) — Товарищ Молотов в сером костюме и в таком оранжевом гластуке. Нет, нет, простите, он был в сером костюме и в коричневом галстуке. В оранжева- том он был в другой раз. Я потом расскажу о том, что было, когда он был в оранжеватом галстуке... Я прошу у него прощения: извините, товарищ Молотов! Я кушал...
(Тут нужно объяснить. Хепс не сидел в приемной, а сидел в столовой. И поэтому был вызван по радио, и это его смущало: не рассердился ли Молотов.)
—
А Вячеслав Михайлович, как сейчас помню, мне говорит: «Кушать у нас в Совете Министров, а также в ЦК не возбраняется». Понимаете, мне, мне, прямо так простецки говорит: «Кушать не возбраняется!» — Ив интонации Хепса прозвучало что-то надмирное. На мгновение, как мне показалось, чело его озарилось ореолом. Расплывчатое, добродушное лицо приобрело значительное выражение, все превратившись в свиной пятак, из дырок которого, как из священных репродукторов, неслись слова новой религии: кушать, кушать, ку... И я вдруг увидел горы и небеса, моря и луга, на которых гигантскими буквами начертано: КУШАТЬ НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ! Хепс же, опустившись на землю, широким жестом пригласил меня разделить его восторг. Закис от радостного смеха и, подавившись черной икрой, запил армянским коньяком, но никак не мог успокоиться, все время хихикая и повторяя многозначительно: «Вот так-то, Эрнст. Кушать не возбраняется! Понял, Эрнст, не возбраняется!» И поднимал беленький пальчик, чтобы подчеркнуть важность и ритуальный смысл: КУШАТЬ, КУШАТЬ, КУШАТЬ! А поскольку не возбраняется, он и кушал. Пил и кушал. Кушал и пил. И рассказывал, и рассказывал. А так как мы слушали, он был убежден, что мы упиваемся содержательностью его рассказов и радуемся вместе с ним всем разудалым радостям чиновничьего бытия-жития. И кушанию. И, конечно, он говорил о семье, и, конечно, как все они, когда подопьют:
—
Для меня семья — все. Но с вами, и между нами, ах, художники, эх, натурщицы, эх, цыганочки... тра-тра-тру-ля-ля... Мастерскую тебе отгрохаю, построю хорошую. Мастерскую за государственный счет. Построил же я Кобелю. Мы здесь все свои... Но тебе, но тебе поэтому скажу без балды. Тебе — другую. У нас же ты не такой официальный. Тебе мастерскую с интимными уголками. Как говорят французы, гран мэрси. А один уголок мастерской — и для меня. Знаешь, почему я люблю большую м...? Между нами... В ней можно найти свой интимный уголочек. Хи-хи-хи...
Все бы ничего. И не такого я за свою жизнь наслушался. Но он как- то незаметно перешел на «ты». В его интонациях появилось нечто дружески поощрительное, но с начальственным оттенком. Вообще-то в неофициальном протоколе, если начальство переходит с подчиненным на «ты», то есть начальство говорит подчиненному «ты», подчиненный же начальству «вы» — до особого разрешения,— это уже поощрение со стороны начальства. Это уже выделение тебя из стада, это уже некое приобщение. Я никогда не терпел такого рода панибратства. Оно действовало всегда на меня, как красная тряпка на быка. Может быть, не тыкай мне Хепс, я бы стерпел его занудность и безобразие. Но тут уже было выше моих сил. И меня понесло:
—
Вы что мне тыкаете. Я с вами свиней не пас...
Много я ему сообщил. И что у моего деда дворник был культурнее начальничка косыгинской культуры, и что я таких сявок, как он, у параши на четыре кости ставил. Много, ох, много было высказано ему на сочном и отборном слэнге. Почему в напряженные моменты при общении с хулиганами, бандитами, милиционерами, функционерами, я переходил на уголовный язык? Выросший в весьма интеллигентной семье, я, естественно, грамотно и, как многие считают, культурно говорю на литературном русском. Но жизнь взрастила меня не только в литературных интеллектуальных салонах. И я скоро понял, что на строительной площадке, в армии, в милиции или даже у начальства в определенных обстоятельствах слэнг звучит как язык силы. А интеллигентный русский — как признак слабости. И при встречах с Хрущевым, возможно, умение нахамить Шелепину на слэнге частично защитило меня. Литературный русский сегодня — это иностранный язык. Нормальный же язык — это смесь заблатненного языка с канцелярскими клише.— Итак, выпоров «феней» ни в чем не повинного Хепса, я бросил официантам пачку денег и ушел, в основном недовольный собой, проклиная и кляня себя за подхалимаж, хамство и несдержанность.
Читать дальше