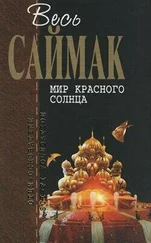Я больше не могу смотреть Мари в глаза — она зажмурилась, лежа на девичьей кровати в своей холодной детской. Но я ее не отпускаю. Сижу не шевелясь за письменным столом и дышу с ней в одно дыхание, провожая глазами дождевую каплю, медленно стекающую по стеклу.
Как она посмела напомнить мне про Серенькую? Мне от этого нехорошо, я заболеваю. В буквальном смысле. Не знаю почему. Дело не только в том, что девочка упала передо мной на колени, тем самым превратив меня в того, кем мне быть вовсе не хотелось. Было еще что-то странно знакомое в ее лице, что-то, чего я не хотела видеть и о чем не хотела думать, когда все это случилось, о чем с тех пор боялась вспомнить. Она кого-то напоминала. Но кого? Не Анну и не Сисселу, не Мод и не маму, никого из одноклассниц и никого из всех тех девушек и женщин, у которых я брала интервью за все годы своей журналисткой работы. Не было среди них ни одной такой бледно-серой. Ни у кого из них, будь она из клоак Боготы или трущоб Бомбея, не было такого отчаяния во взгляде, и ни одной из них и во сне бы не пришла мысль упасть передо мной на колени.
Мари думает про Анастасию. Но тогда мы не знали про Анастасию, и к тому же на Серенькую она ничуть не похожа. В лице Анастасии не было ни малейшего намека на серый цвет, и даже когда она устроила в Хинсеберге голодовку, все равно походила на веснушчатую Белоснежку. Должно быть, ее мама тоже сидела и вышивала зимним днем у окна, и тоже уколола палец иголкой, и, в точности как мать Белоснежки, пожелала себе дочку цветов этого дня: волосы темные, как ветки голых деревьев, кожа — белая, как снег, а губы алые, как бусинка крови, выступившая на пальце.
Не похоже, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пожелал Серенькую.
Кроме Сверкера, разумеется. И сотни или тысячи других «гусей».
Сердце заходится. Надо встать и сделать глубокий вдох, не то задохнусь. Нет, не помогает, на этот раз не удается отделаться от вопросов — тех, которыми я семь лет кряду предпочитала не задаваться. Как он мог? Как мог тот, кто больше двадцати лет был моим мужем, поступить так с Серенькой?
Все прочее я могла понять, даже когда в душе поднималась та белая ярость, что именуется презрением. Письма и фотографии, что я нашла под пластиковой подложкой на его письменном столе, когда понадобилось освободить его кабинет в офисе рекламного агентства, все электронные письма, собранные в особую папку (названную «XXX») в его компьютере. Они меня взбесили, разумеется, но не столько тем, что обнаружились бесчисленные обманы и измены, — о них я уже знала или догадывалась, — сколько бесстыдством лексики, тем, как Сверкер и его любовницы мешали в кучу квазиромантические и полупорнографические банальности, причем явно с удовольствием. Ты прекрасней всех на свете! С тобой я на седьмом небе от счастья! Твой хуй — это просто шедевр, вот бы его на выставку! Обожаю твою пизду! Никто не способен любить так, как ты, никто в целом гареме не смог бы доставить мужчине такое наслаждение..
Слова, лишенные реального содержания, мертвые слова, имитирующие жизнь, слова, потрясшие меня еще и тем, что входили и в мой лексикон, в тот язык, который я прекрасно знала и видела изнутри, в язык, где ни на йоту не было подлинности и правды. Язык желтой прессы. Язык рекламы. Я покраснела, осознав, что Сверкер употреблял весь этот вокабуляр на полном серьезе. Демонстрируя отсутствие слуха и чутья, причем, что самое обидное, не только у него, но и у меня. Я же и себе позволила обмануться, и сама себя обманывала. Не вполне сознавая, я вообразила, будто самоуверенность, с которой он держался, вескость, с которой он высказывался на ту или иную тему, однозначность, с которой он то привлекает меня, то отталкивает, коренится в его особом отношении к жизни, будто он решил: неважно, что здесь, на поверхности, — зато внутри него таится нечто глубокое и подлинное, что не поддается словам, но накладывает отпечаток на мысли и поступки.
А оказался обычным типом без воображения, которому просто ширинка жмет. Банально.
Мне хватило бы и этого понимания. Но встреча с Серенькой добавила некое дополнительное измерение, то, которое вплоть до сегодняшнего дня я видеть отказывалась. Взамен подступала дурнота и тошнота, — всякий раз, стоило образу девочки промелькнуть перед глазами, и вместо всяческих раздумий я опрометью кидалась в туалет.
Всякий раз, но не теперь. Сейчас меня не вырвет. Сейчас я останусь сидеть за письменным столом и в самом деле попытаюсь постичь непостижимое.
Читать дальше