МОНАШКА
Рождество скоро. Господи, вот же нехристи: в пост ёлку в дом принесла, с детьми своими сидела, из цветной бумаги вырезывала разные фигурки. Блестящей бумаги достала где-то, из яичной скорлупы мастерила что-то. И звезду красную на верхушку. Вот же адское отродье! Звезда на ёлке вашей – суть Вифлеемская звезда, которую волхвы узрели. Раньше ангел со звездой в лавках продавался. Ходили с maman после уроков, выбирали открытки, кукол сестрицам покупали. Не восковых, а с фарфоровыми личиками. Помню, японские и китайские куклы были в четырнадцатом году – глаз не отвести (а сейчас голыши какие-то и солдатики, смотреть противно, да и тех не достать). А у кукол личики были розовые, и открытки были не чета нынешним. Помню, более всего мне нравились немецкие – прелесть, а не открытки, цветные, яркие, с тонким рисунком – ангелы с розовыми щечками, ночь, луна, домики под снегом, и блестки разноцветные на белом – как настоящий снег. Не то, что сейчас печатают – краска одна типографская и дурачье в буденновках, и сами блеклые, и пачкают руки. Да и где в этой проклятой Сибири достанешь немецкие открытки?
Maman шла красивая, в маленькой шапочке с мехом, в жакетке с лисой-чернобуркой и в узкой черной юбке – это модно тогда было, ей очень шло. Еще, помню, рукава были с буфами до локтя, на сборках, а ниже – узкие, на пуговицах. И талия осиная. А я была в гимназическом еще коричневом платье, с воротником-стоечкой в рюшах, и тоже в меховом жакете. На этой Екатерине Александровне сейчас платье с “низкой талией”, из креп-сатина. Где эта талия – не разберешь, будто в мешке женщина. Повязала голову лентой в тон – и ходит, как доярка. Ужасно!
Нас с maman еще принимали за сестер. И снег хрустел под ногами, и теплее было, чем в этой проклятой Сибири. И фонари везде горели, электрические и газовые. Тут с этой электрификацией всей страны ноги в потьмах переломаешь. Один фонарь на весь переулок – то в сугроб попадаешь, то в яму.
Что еще было? Ах, игрушки елочные – таких шаров уже нет и не будет. Не выдувают сейчас таких, и не распишут так, и толченым стеклом на клей присыпать не станут.
А в девятом году, помню, мы с классом увлекались альбомами. У меня был синий, в сафьяновой обложке, с золотым обрезом. Сначала я туда напереводила картинок: такие маленькие херувимчики по углам, и Дева Мария на титульном листе – тоже немецкие были, и яркие, что страсть. Мне, маленькой, было безразлично, что они лютеранские. Потом бегали с ними на рекреациях, стишки в них друг другу писали. И на последней странице: “Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня”. И maman c papa расписались: “Расти умницей, наша дорогая, золотая наша Нюрочка, и пусть твоя жизнь всегда будет такой же легкой, как сейчас”. А Ирка Скобелева написала на редкость дурацкий стишок, что-то вроде:
Ангел летел над сугробом
В хладных лучах декабря.
Ангел сказал ей три слова:
“ Нюра, голубка моя!”
Я втихомолку долго смеялась, но ей наврала, что она – молодец, и за стихи поблагодарила, само собой. И ей в альбом написала: “Я вас люблю, вы мне поверьте. Я вам пришлю свой нос в конверте”. Дети были, что с нас взять?
За окном в свете электрического фонаря мерно падали хлопья снега. Не кружились, а просто падали, словно Господь обессилел и ронял их слабеющими руками на промерзшую насквозь землю. Ситцевая в горошек занавеска доходила только до половины окна, и сестра Анна смотрела поверх этого убожества на умирающую улицу.
Было тихо. Шестилетняя Сонечка в углу сосредоточенно шила платьице для резиновой куклы, а восьмилетняя Тамарочка лежала на антресолях с третьим томом словаря Брокгауза и Ефрона. Она перечитывала этот словарь уже по второму разу. Ничего не скажешь, умный ребенок. Вчера нашла в чулане икону и хотела порубить на щепочки, на растопку для самовара. Опиум для народа. Глупые дети.
Екатерина Александровна отдыхала: учеников распустили на каникулы. До этого она все дни проводила в школе. Сначала утренние занятия с детьми, потом вторая смена и ликбез. Она была директором этой школы, вела уроки и вникала во все мелочи. Придя домой с другого конца города, наскоро хватала то, что находила на еще теплой плите, ела без особого удовольствия и валилась спать. Сестра Анна знала, что эта женщина на хорошем счету в партии. Еще бы. Партия сказала: учи чужих детей, и она бросила своих на произвол судьбы. Нет ничего удивительного в том, что эту активистку оставил муж. Она даже не смотрится в зеркало – кому такая нужна? Даже чертова Инесса Арманд – и та умела готовить и следила за собой.
Читать дальше

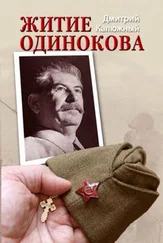



![Олдос Хаксли - Монашка к завтраку [сборник]](/books/406316/oldos-haksli-monashka-k-zavtraku-sbornik-thumb.webp)


