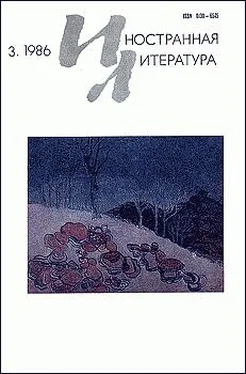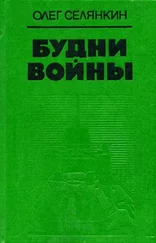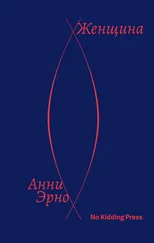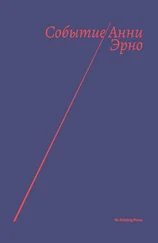Как-то заявил: «Книги и музыка нужны тебе. Мне они ни к чему, я обойдусь без них».
В остальном он, жил спокойно. Когда я возвращалась из школы, он сидел на кухне, у двери, выходившей в кафе, и читал «Пари-Норманди», сгорбившись и вытянув руки на столе по обе стороны газеты. Он поднимал голову: «А вот и ты, дочка».
— Ужасно хочу есть!
— Ну, это не страшно. Возьми чего-нибудь, поешь.
Он был рад, что может, по крайней мере, кормить меня. Мы неизменно говорили друг другу одни и те же слова, как когда-то давно, когда я была маленькая.
Мне казалось, что он больше ничего не может мне дать. Ни его высказывания, ни его мнения не годились на уроках французского языка, или филологии, или же в гостиных моих школьных подруг с диванами из красного бархата. Летом, через открытое окно моей комнаты, я слышала стук его лопаты, выравнивающей перевернутые пласты земли.
Я пишу, возможно, потому, что нам уже нечего было сказать друг другу.
Вместо развалин, которые мы застали, приехав в И..., в центре города теперь выросли небольшие дома кремового цвета с современными магазинами, которые освещались даже ночью. По субботам и воскресеньям вся молодежь округи болталась на центральных улицах или же смотрела телевизионные передачи в кафе. Женщины из нашего района набивали корзины провизией на воскресенье в больших центральных продовольственных магазинах. Мой отец, наконец, отштукатурил весь фасад дома и приладил неоновую вывеску в то время, как другие владельцы кафе, не отстающие от моды, снова восстанавливали нормандские фахверковые дома с ложными балками и вешали старинные фонари. Вечерами он сидел сгорбившись и подсчитывал выручку. «Давай им товар хоть бесплатно, все равно не идут». Каждый раз, когда в И... открывался новый магазин, отец отправлялся на велосипеде посмотреть на него.
Родители смогли, наконец, существовать без ссуд. Наша округа пролетаризировалась. Вместо средних служащих, переселившихся в новые дома с ванными комнатами, появились малообеспеченные люди, семьи молодых рабочих, многодетные, ожидающие переселения в дешевые муниципальные дома. «Заплатите завтра, не в последний раз видимся». Старички из богадельни поумирали, новому пополнению запрещалось возвращаться домой пьяными, но им на смену пришла другая клиентура — люди, заходившие в кафе от случая к случаю, не такие веселые, долго не засиживающиеся, но исправно платящие. Казалось, наше заведение стало теперь вполне благопристойным.
Отец приехал за мной к закрытию детского лагеря, где я работала руководительницей. Мать поаукала мне издалека, и я их заметила. Отец шел, сутулясь и наклонив голову от солнечных лучей. Его торчавшие покрасневшие уши бросились в глаза — отца явно только что подстригли. Стоя на тротуаре перед собором, они говорили между собой очень громко, споря о том, в какую сторону ехать обратно. Они походили на людей, редко выбирающихся из дому. В машине я заметила у отца желтые пятна под глазами и на висках. Впервые в жизни я провела два месяца вдали от дома, среди молодежи, наслаждающейся свободой. Отец был стар и морщинист. Я почувствовала, что не имею права поступать в университет.
Вначале у него появилось нечто неясное, неприятное ощущение после еды. Он принимал магнезию, страшась вызвать врача. На рентгене в Руане у него, однако, установили полип в желудке, который следовало немедленно удалить. Мать без конца упрекала отца в том, что он беспокоится по пустякам. Он же чувствовал вину из-за того, что лечение обойдется дорого. (Торговцы тогда еще не пользовались социальным страхованием.) Он говорил: «Стряслось же такое».
После операции он оставался в больнице совсем немного и потом медленно поправлялся дома. У него уже не было прежних сил. Опасаясь расхождения швов, он не мог больше поднимать ящики или работать в огороде по нескольку часов подряд. Теперь уже мать бегала без конца из подвала в магазин, работая за двоих, поднимая ящики с товарами и мешки с картофелем. В пятьдесят девять лет отец утратил свою мужскую гордость. «Я уже ни на что не годен», — говорил он матери, вероятно имея в виду не только работу.
Но ему хотелось вернуться к нормальной жизни, приспособиться к новому положению. Он стал искать, что для него подходит. Прислушивался к себе. Питание превратилось в сложнейшую проблему; пища считалась полезной или вредной в зависимости от того, переваривалась ли она нормально или «долго напоминала о себе». Он тщательно нюхал бифштекс или мерлана, прежде чем положить их на сковородку. Вид моей простокваши был ему противен. В кафе, во время обедов с родными, он рассказывал о том, что обычно ест, обсуждал с родичами достоинства домашних супов по сравнению с концентратами в пакетах и тому подобное. С приближением шестого десятка все вокруг говорили примерно о том же.
Читать дальше