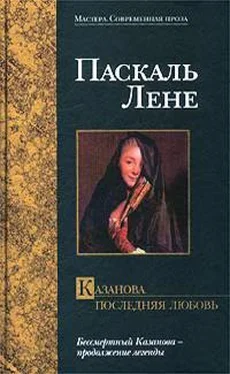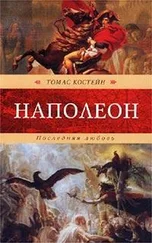Попросив Розье побыть ее секретарем, г-жа де Фонколомб удалилась в свои покои диктовать письма. Казанову ждали обязанности библиотекаря. Он предложил аббату сопровождать его, с тем чтобы показать редкие издания. Получив от своей хозяйки разрешение располагать собой до полудня, Полина осталась одна. Казанова надеялся задеть ее самолюбие, покинув ее. Он вдруг стал таким обходительным с аббатом, словно это была хорошенькая женщина: он надеялся как можно дольше задержать того в библиотеке, чтобы Полина была лишена даже такого общества.
К полудню от г-жи де Фонколомб поступила весть, что она не будет обедать и что Розье остается при ней читать. Казанова пригласил Дюбуа в деревенскую харчевню, где была прелюбопытная немецкая кухня. Аббат с энтузиазмом принял приглашение, поскольку соусы и вина были ему ближе, чем проповеди Эпиктета [18] Греческий философ-стоик (ок. 50 — ок. 140). Философские проповеди Эпиктета дошли до нас в записи его ученика.
и суждения Аристотеля, пусть даже и в дорогих кожаных переплетах с оттиснутым гербом Валленштейна. Они оставались за столом до середины второй половины дня. И хотя Джакомо обед стоил целого дуката, цена не казалась ему слишком высокой, ведь он заплатил еще и за удаленность от предмета своей страсти, за то, чтобы Полина осталась в одиночестве либо в компании лакеев графа и отпробовала несъедобной стряпни Фолькирхера.
Возвернувшись в замок к четырем часам с набитым желудком, но пустой головой, Казанова пребывал в состоянии душевного покоя и чувствовал себя готовым предпринять новые атаки на сторонницу Робеспьера. Он не мог сдержать улыбки, когда ему пришло в голову, что таким образом он поведет военные действия против революции, и притом заодно с капитаном де Дроги, выступившим на защиту Вены от возможного натиска революционной армии, и что каждому из них — и ему, и капитану — предстоит занять некие рубежи. Как и Вальдштейн, де Дроги был помешан на лошадях, а Казанова был убежден: страсть к лошадям исключает страсть к женскому полу.
Оставив аббата на садовой скамье переваривать пищу, Казанова взбежал по лестнице и направился к малым апартаментам, где последние три дня собиралось их небольшое общество.
Полина находилась в музыкальном салоне. Заметив Джакомо, она ему улыбнулась. Но увидев сидевшего рядом с ней на краешке кресла и одним коленом опирающегося на пол капитана де Дроги или же его двойника, он покачнулся. Судя по их виду, капитан предлагал ей вечную любовь.
С другой стороны от Полины, у ее ног, на низкой скамеечке сидела Тонка, что было верхом абсурда и симметрии. Она была так поглощена вышиванием, что даже не заметила вошедшего.
Словно очутившись в кошмарном сне, Джакомо не мог отделаться от этого ужасающего порождения его воображения, иначе как скрывшись. Он бросился к лестнице, будто за ним гнались привидения, и спрятался в своей комнате, запершись изнутри.
С минуту он не отходил от двери, держась за ручку, дрожа и задыхаясь, не уверенный в том, что представшее его взору было явью и в то же время зная, что это правда. Затем рухнул в кресло, и, сидя лицом к двери и не спуская с нее глаз, попытался осмыслить увиденное.
Невообразимое трио — Полина, Туанет и капитан — могло объясняться лишь вмешательством Провидения, дававшим ему понять, что и сегодня еще он должен платить за грехи, к которым так часто склонял его «злой гений». Неожиданное возвращение соперника, сказать по правде, меньше выбило его из колеи, чем встреча Полины с Туанон: пустоголовая нимфетка вполне могла поведать Полине, каких знаков внимания удостоил ее шевалье. Он по опыту знал, что женщины могут общаться, не прибегая к помощи слов, точно так же как думать, не прибегая к помощи мыслей.
До вечера сидел он не шевелясь, напряжением ума обратив себя в изваяние, не зная, на что решиться, и думая только о том, как отправить девчушку к ее отцу, в хижину в дальнем углу парка. Но челядью заправлял Шрёттер, и пришлось бы обращаться к нему, а тот спал и видел, как бы навредить своему врагу библиотекарю.
От такой каверзы со стороны судьбы Казанова сперва не хотел выходить к ужину, а потом стал подумывать о том, чтобы не показываться вовсе и оставаться в своей комнате до отъезда гостей, намеченного через несколько дней.
Смеркалось. Он поднялся зажечь свечи в канделябре на письменном столе, одновременно подумав, что не помешает подвигаться: это придаст живости его уму.
На столе на папке марокканской кожи лежало два письма.
Читать дальше